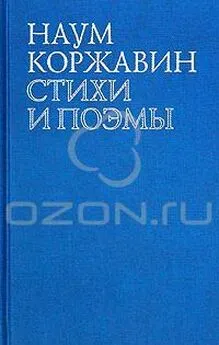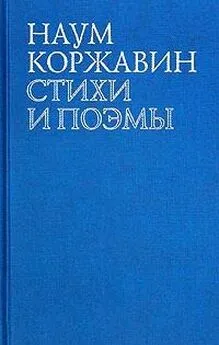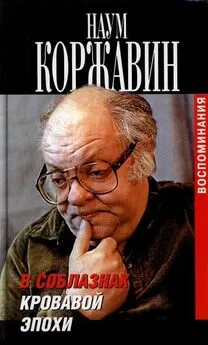Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Книга 1
- Название:В соблазнах кровавой эпохи. Книга 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-0654-9, 978-5-8159-0656-33
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Коржавин - В соблазнах кровавой эпохи. Книга 1 краткое содержание
Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная…
В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства…
[Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи: Воспоминания в 2 кн. Кн. 1.
Полный текст в авторской редакции.
Издание второе, исправленное.]
В соблазнах кровавой эпохи. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А к какой партии вы в этих разговорах склонялись? — дожимает Бритцов.
— Да ни к какой…
— Ну а все-таки — чаще все-таки к какой? — не удовлетворяется Бритцов. И верный заветам «наседки», Минухин предается излишним уточнениям.
— Чаще, как мне теперь помнится, к меньшевикам… Но мы вообще редко говорили об этом… Я хотел быть математиком.
Но все это уже неважно. Ответ Минухина записан Бритцовым четко и ясно: «В период между Февралем и Октябрем я стоял на меньшевистских позициях и посещал молодежные меньшевистские собрания». Это соответствует советскому мифу. Сам Бритцов и все, кого он встречал и встречает, ни на каких «позициях» сроду не стояли. Стандартная фраза из характеристики «Делу партии Ленина — Сталина предан» определяет все их мировоззрение и представление о том, что это такое. Но согласно мифу раньше какую-либо «позицию» занимал каждый, а Бритцов был поставлен охранять этот миф. И, конечно, работать на него. И — негласно, но явно — подгонять под него. Думаю, он мог не понимать, что смешно и патологично привлекать человека к ответственности за то, что он думал тридцать лет назад (понимания того, что человека вообще нельзя привлекать за мысли, я у него, тогдашнего, не требую), но что Минухин действительно в 1917-м не стоял ни на каких позициях, он наверное, понимал. Но понимал он и то, что ему необходимо закончить дело, поместить Минухина в миф на надлежащее место. И соответственно действовал. А верный духу своей камеры, Минухин подписал и этот вариант своих воспоминаний. И уж конечно, признался во всех реальных и приписанных высказываниях, а также согласился с их фантастическим истолкованием. Но следователь на этом не останавливается, он развивает успех: «А кроме того, я лелеял террористические замыслы против наших вождей», — вносит он в протокол уж совсем от себя. Тут в оглушенном сознании подследственного просыпается слабое ощущение реальности, и он начинает протестовать:
— Но я ведь я этого не говорил…
— Да это чепуха… Для проформы…
И Минухин, чтоб не доставлять затруднений следствию, подписывает и эту глупую и опасную клевету на себя.
На следующем допросе Бритцов как бы между делом роняет:
— Да ты ведь, гад, еще и террорист!
— Как террорист?
— Ты ведь сам подписал.
— Вы ведь говорили, что неважно.
— Я тебе покажу «неважно», вражина! Террорист! — и «неважно».
Вот так и получился у Бритцова «трудовой успех» — обезвредил меньшевика и террориста. Правда, это несовместимо — меньшевики никогда не были террористами, но кого это интересовало? По советской мифологии оба эти слова — знаки дьявола, доказательство преступности индивидуума. Да и мелочь это по сравнению с тем, что Минухин вообще не имел отношения ни к тем, ни к другим, но сознался. Как он грустно и все же не без некоторой гордости говорил в камере: «Я сознался на 180 процентов».
Капитан Бритцов не производил впечатление ни подлеца, ни злодея, но ведь совершал преступление — намеренно и обдуманно совершил подлог, заставил себя оболгать ни в чем не повинного человека. Я уже говорил, что вспоминаю обоих следователей без всякой антипатии, хотя деятельность их была преступной и страшной. Многим людям, путем угроз и обманов выжав из них показания, они — в том и состояла их профессия — «оформили», как Минухину и как собирались мне, внушительные сроки. А ведь оба эти офицера были людьми неглупыми, с высшим образованием (Братьяков — с педагогическим, Бритцов — с юридическим) и должны были понимать, что делали. Но я думаю, что не понимали. Им поручались «дела», и они их оформляли. Может, в их кулуарах «по-умному» между собой говорили (как «лазоревый» о репрессиях) о том, что ничего не поделаешь, фиктивные дела необходимы.
Я помню происшедший при мне разговор Братьякова с приятелями о возможном перемещении Братьякова в Свердловск на должность начальника облуправления (или только следственного отдела — не помню).
— Это интересный город, — творчески произнес Братьяков.
Что могло в любом городе быть «интересного» или творческого — в плане их фиктивной и вредной деятельности? Однако находили, различали, воображали. Возможно, как интересно будет вылавливать настоящих шпионов, которых должно быть навалом в этом промышленном центре. Не то, что здесь «репрессиями» заниматься. Советский человек всегда мечтал дорасти бюрократическим путем до творческого уровня. А они и были обычными советскими людьми. Конечно, не каждый выдержал бы их работу, но многим просто повезло на нее не попасть. Все мы ухитрялись мириться с созданной при участии МГБ обстановкой и даже успешно в ней работать, в том числе и на секретных работах. Им просто не повезло.
Они, конечно, не были нравственными гигантами и не были подготовлены к духовной самостоятельности и ответственности, достаточной, чтобы самостоятельно вырваться из той проруби, куда их затянуло. Может, не могли и осознать, что из нее надо вырываться. Но одни ли они были такие?
Но они не сознавали, что аппарат, особенно аппарат подавления, стал функциональным выразителем сталинской хвори, а они сами — являются кистенем и удавкой в руках преступника.
Но до таких обобщений и мне было еще далеко. Да мне тогда вообще было не до обобщений — прежде всего в камере мне ясно объяснили, что в любом случае сразу объясниться и очиститься мне не удастся — следствие как минимум длится четыре месяца, вызывают, в основном, не так уж часто. Это показалось мне невыносимым и было для меня тогда страшным ударом. Ведь я так хотел объясниться со «своими» — я ведь считал следователей своими. А весь этот обрушившийся на меня кошмар, отчасти уже описанный мной, усиленный патологической эйфорией этой камеры, — я признать ни заслуженным, ни соприродным себе не мог.
Ирреальности происходящего противостояла только ирреальность снов. Правда, спать можно было только от отбоя до побудки — с десяти вечера до пяти утра. Если кто-то засыпал днем, надзиратели его будили — иногда встряхивая за плечи, чаще щелкая замком, очень там громким. Все это описано многими. Этот режим использовался и как пытка: человека всю ночь держали на допросе, иногда и не допрашивая, просто не давая спать, а утром его возвращали в камеру, где не давали спать на общих основаниях. Ко мне это не применяли. Ночью меня вызвали только один раз, а потом дали отоспаться — это было во власти следователя. Так что в принципе я от недосыпа потом не страдал. Но в первые дни меня все время тянуло в сон, точнее, к снам, как, вероятно, наркомана к наркотикам. Во сне я опять оказывался в общежитии, в нашем подвале и рассказывал ребятам, какой бред мне приснился. Но потом я просыпался, и бред оказывался явью. Часто сны были многослойными. Из камеры я попадал в общежитие, а оттуда опять в камеру. Но и это оказывалось сном, я вздыхал с облегчением, но в конце концов, естественно, опять просыпался в камере. Иногда меня будил надзиратель — вышеобозначенным способом, но скоро я опять засыпал. Потом прошло. Сны утешали, но не помогали — уводили меня оттуда, откуда увести не могли, манили невозможным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: