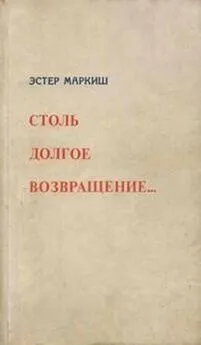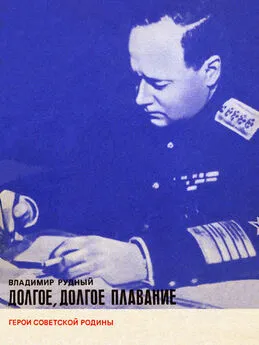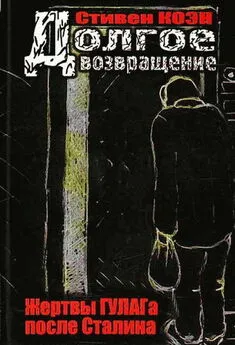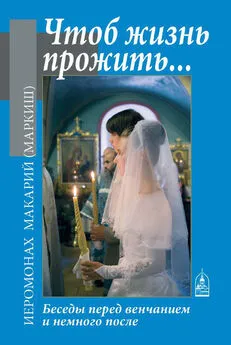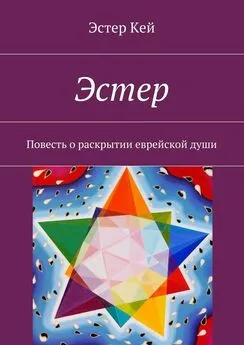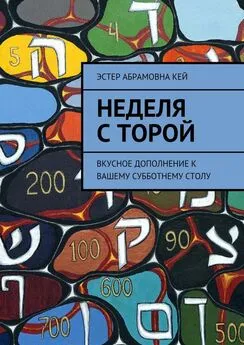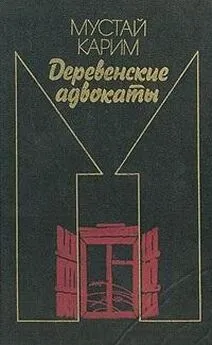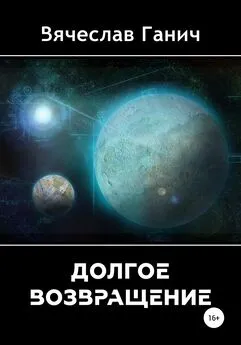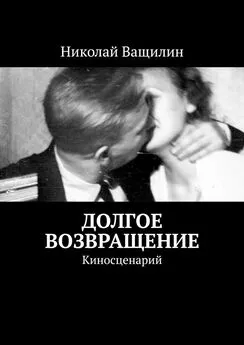Эстер Маркиш - Столь долгое возвращение…
- Название:Столь долгое возвращение…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издание автора
- Год:1989
- Город:Тель-Авив
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эстер Маркиш - Столь долгое возвращение… краткое содержание
Столь долгое возвращение… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Э. Лазебникова
Мучительно долго тянулось время. Мы ждали чуда, которому не суждено было свершиться. Но мама писала нам, что она не перестает хлопотать, что «говорят» о переменах к лучшему, что унывать ни в коем случае не следует. Человек так устроен — он верит. И мы хотели верить, что жизнь наша еще не окончательно погублена. Редкие друзья, оставшиеся нам верными, помогали нам посылочками — кто пришлет крупы, кто сахару. Были и такие, которые помнили, что я еще не старая женщина, что любила в прошлой своей жизни приодеться, и баловали меня новеньким платьем, кремом для лица, духами. И я по сей день благодарна моим друзьям, не давшим мне опуститься, помогшим сохранить веру в себя.
Нашу Лялю мы обнаружили благодаря ее другу по институту, прекрасному, благородному Николаю Рапаю, молодому и одаренному украинскому скульптору, поехавшему вслед за Лялей в Красноярский край, куда она была сослана после того, как ее арестовали 19 февраля 1953 года прямо на занятиях в Киевском Художественном институте. Ляля писала из Долгого моста — деревни, куда она была сослана, — что Николай Рапай приехал к ней и предложил разделить с ней ссылку, жениться на ней. Они поженились и Николай уехал, чтобы добиться академического отпуска на год, а потом вернуться к Ляле.
Но после реабилитации врачей я с новой упрямой настойчивостью писала во все инстанции, запрашивала о Маркише, добиваясь пересмотра его и нашего дела, — а главное, понимая, что этого легче будет добиться, — просила разрешить всей семье Маркиша соединиться в одном месте. Просила я разрешить и моему брату Александру Лазебникову отбывать свою бессрочную ссылку рядом со своей единственной сестрой. Тщетно ждали мы ответа.
Однажды в начале мая за мной пришел из комендатуры посыльный и велел немедленно явиться к майору Ахметову. Обычно, вызов в комендатуру не предвещал ничего доброго. С тяжелым сердцем отправилась я туда в сопровождении Симона и Давида. Войдя в комнату, громко именовавшуюся «кабинетом» Ахметова, я сразу же по гневному выражению лица вершителя наших судеб поняла, что ничего приятного мне этот визит не сулит. И, увы, я не ошиблась. Ахметов, набросившийся на меня чуть ли не с кулаками, орал и бесновался больше обычного. Из всех его воплей и криков я с трудом поняла, что речь идет о Давиде. Оказалось, что мой младший сын, не спросив у меня разрешения, вместе с одним из своих товарищей переправился на лодке на другой берег Сыр-Дарьи и удил там рыбу. Ссыльным не разрешалось отлучаться далее чем на 5 километров, а ребята нарушили это правило. Так вот, за преступление несовершеннолетнего сына, в случае повторного нарушения им установленных правил, я буду осуждена на 25 лет каторжных лагерей!
Впервые за все время ссылки я была испугана настолько, что не осмелилась даже возразить Ахметову и подписала акт и обязательство отвечать в дальнейшем за поступки сына. Когда я вышла к дожидавшимся меня сыновьям, они, слышавшие истошные крики Ахметова, кинулись ко мне, счастливые уже тем, что все-таки на этот раз все обошлось относительно благополучно. По дороге домой я и дети молчали — у всех было тяжело на душе.
Дома я попыталась, как могла, объяснить Давиду, что он человек подневольный, обязан подчиняться требованиям комендатуры и что его непослушание может обойтись мне очень дорого. Мне больно было за мальчика — в его возрасте очень трудно отказывать себе в мальчишеских удовольствиях, сознавать свою ущербность. Давид, не слишком разговорчивый от природы, и вовсе умолк. Улегшись на сундук, служивший ему постелью, мальчишка пролежал, отвернувшись к стене, весь долгий день и всю ночь, до самого утра. Больше мы к этой теме не возвращались, избегая травмировать мальчика.
Все меньше оставалось надежды на скорое освобождение, все труднее было мириться с мыслью, что полковник, сказавший мне, что мы никогда ничего не узнаем о Маркише, может оказаться прав… Как-то жарким летним днем, когда мы уже меньше всего ожидали перемен, меня снова вызвали в комендатуру. Там, кроме ненавистного мне Ахметова, сидел какой-то незнакомый человек, по облику русский. Ахметов на сей раз был почти любезен. По вопросам, которые он задавал мне, я начала догадываться, что вызов этот связан с моим письмом, которое я писала в Центральный комитет назавтра после реабилитации врачей. Первой мыслью моей было, что мне не избежать теперь лагери, — ведь я отправила письмо, минуя комендатуру! Но тут в разговор вступил незнакомец, сказал, что он приехал из «центра», что письмо мое, направленное в Москву, внимательно изучалось, что он интересуется условиями нашей жизни, нашим трудоустройством. Я просила его только об одном — разрешить нам переехать в районный центр, в Кзыл-Орду, где мы сможем применить свои знания, начать работать по специальности, преподавать иностранные языки.
Окрыленная, мчалась я домой, скорее поделиться надеждами со своими. А тут еще и новое событие: вопреки официальному указу об амнистии, вышедшему вскоре после смерти Сталина и распространявшемуся только на уголовных, нам вдруг объявили в той же комендатуре, что срок нашего наказания сокращен наполовину. Мы приободрились, еще с большей энергией стали писать во все инстанции, разыскивая Маркиша, добиваясь пересмотра дела.
Лето шло к концу. Тяжелое, мучительное, не только потому, что нам, жителям средней полосы России, невмоготу было справляться с жарой, доходившей в этой голой степи до 40° по Цельсию, а потому что впереди нас опять ждала холодная, беспросветная зима, без надежд на перемены в нашей судьбе. Однако постепенно стали доходить из Москвы вести о каких-то сдвигах к лучшему — кого-то освободили, кому-то заменили лагерь ссылкой, поговаривают, будто начала работать комиссия Центрального Комитета по пересмотру дел заключенных в лагерях.
Однажды, в августе, прибежала к нам взволнованная Евгения Исаевна. Она получила вызов в комендатуру, где ей сообщили, что она свободна и может ехать к своим детям. Это была действительно ошеломляющая новость. Значит, «оттепель» началась. Правда освобождение Евгении Исаевны, путавшей Маленкова, первого заместителя Сталина, с маршалом Малиновским и называвшей Сталина — «Сталиновым» еще ни о чем не говорило: она ведь была сослана в 38 году, ни разу не осмеливалась просить о пересмотре своего «дела» и, по-видимому, комиссия начала свою деятельность со старых списков. И все же мы, хотя и старались не слишком себя обнадеживать, повеселели. Мы даже устроили вечеринку, созвав весь наш кармакчинский «бомонд», судили и рядили о переменах, начавшихся после падения Берия (он был арестован еще в мае). Я снова написала в Москву, напомнив о нашем тяжелом положении, о нашей просьбе — перевести нас в Кзыл-Орду, где мы могли бы работать по специальности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: