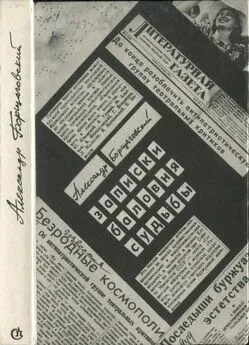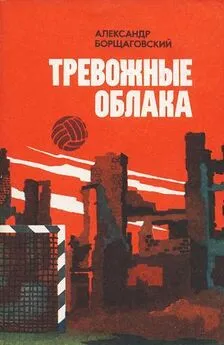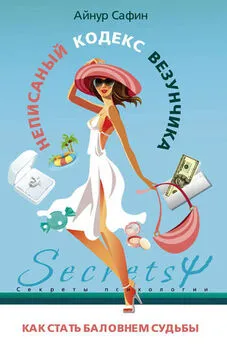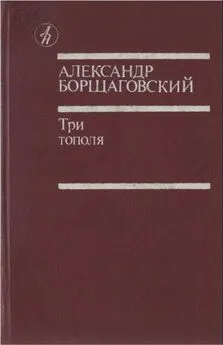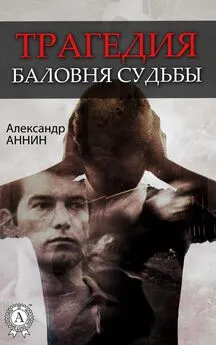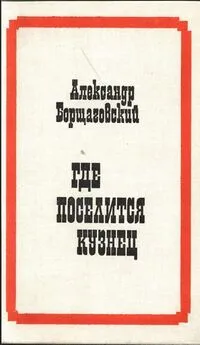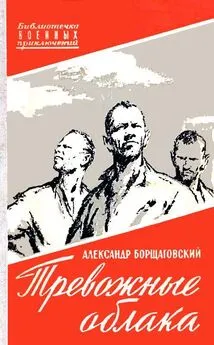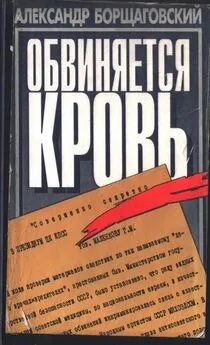Александр Борщаговский - Записки баловня судьбы
- Название:Записки баловня судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Борщаговский - Записки баловня судьбы краткое содержание
Множество фактов истории и литературной жизни нашей страны раскрываются перед читателями: убийство Михоэлса и обстоятельства вокруг него, судьба журнала «Литературный критик», разгон партийной организации Московского отделения СП РСФСР после встреч Хрущева с интеллигенцией…
Записки баловня судьбы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А отвергнутые были реальной силой. За ними не только власть в журналах (кроме «Нового мира»), в издательствах, но и безоглядная поддержка партийной бюрократии. «Чего ты путаешься с ними? Зачем к ним пошел? — с брезгливой гримасой спросил А. Софронов у М. Луконина, избранного в руководство МО СП. — Они — нищие; деньги у нас…»
В этих словах — весь А. Софронов, лишенный кочетовского фанатизма, готовый к сговору, к виляниям, к компромиссу и уступке [49] Совсем недавно мы получили новое подтверждение того, что так выделяло Софронова — его готовность к сговору. Как-то в конце 60-х годов Н. Ильина заговорила с А. Твардовским о писателях, противниках «Нового мира». «Напечатай я их завтра, — сказал Твардовский, — перестанут ругать! Уж подкупить пытаются. Софронов звонил. Предлагал издаться в „Библиотеке „Огонька“. Верное дело: тираж большой, стихи оплачиваются поштучно, много денег. Отказался“ „Почему же отказался?“ — спросила Твардовского жена, Мария Илларионовна. „Из-за тебя, Маша. Хочу, чтобы ты на старости лет уважать меня могла“» («Огонек», 1988, № 17, с 28)
.
Н. Грибачеву Ленинская премия была присуждена за более чем скромное участие в коллективном сборнике о поездке Н. Хрущева в США — «Лицом к лицу с Америкой». Повод, что ни говори, анекдотический и для истинного художника унизительный, но в этой случайности выражена железная закономерность времени. Н. Грибачев был обречен на Ленинскую премию, он двигался к ней твердой поступью, с тем именно наклоном туловища, которого ждало и требовало начальство; обделить его высшей премией страны — значило нарушить что-то в самом устройстве мира, передать некий не формулированный словами идеал. В щедрых наградах неодаренных литераторов должна была парадоксальным образом выразиться прочность, стабильность самого времени. Казалось, не дай им к сроку — а то и до срока! — награды, не сделай их Героями Социалистического Труда, и что-то в общественном устройстве сломается. Не оттого ли уходили из жизни не удостоенными высоких наград лучшие художники страны, а сноровистые потомки рапповских вожаков купались в сиянии орденов и звезд?
Так сохранялось глубоко запрятанное, ловко маскируемое явление все того же попутничества в литературе, а «черной печатью», знаком этого нового попутнического проклятия оказывался талант, его новизна и независимость. Вс. Кочетов осмысливал в глубине души как попутчика Веру Панову с ее «Спутниками», со всем тем, что, по его искреннему разумению, было слабостью, недостатком партийности, «абстрактным гуманизмом».
У немилых москвичам «корифеев» были деньги и власть и способность находить единомышленников в других искусствах, всех тех «реалистов на подножном корму», кто ополчался на поиск, на любую попытку нового, неординарного мышления и любые новые формы реализма. К тому времени догматики и интриганы получали мощную опору: во главе идеологии, как я уже сказал, стал Л. Ф. Ильичев.
Он — режиссер с фантазией и размахом, одна за другой прошли подготовленные им акции: разгром художественной выставки в Манеже, а следом две «дружеские» встречи руководителей партии и правительства с писателями и деятелями искусства. Обе встречи строились по похожему сценарию, с той разницей, что первая, на Ленинских горах, продолжала публичный скандал, начавшийся в Манеже, вторая сосредоточилась на разгроме литературы и литераторов. Во Дворце приемов роль взрывного устройства сыграло подготовленное к случаю письмо отсутствовавшего Вучетича: совесть или чувство неловкости, видимо, помешали Вучетичу явиться в собрание, пред сотни нелюбезных очей, — испытание нелегкое, лучше сказаться больным. Скульптор гневался на то, что «Литературная газета» поддерживает, мол, модернистов, печатает статьи в их защиту, а его письму в защиту социалистического реализма места на страницах «Литературки» не нашлось!
Судьба редактора «Литературной газеты» Косолапова, моего соседа по длинному банкетному столу, была решена гневной репликой Хрущева: «Гнать надо таких редакторов!» Для второй, мартовской встречи — она как бы продолжала первую, но уже без угощений, — было тоже испрошено гневное письмо, на сей раз у Ванды Василевской (то ли не приехавшей из Киева, то ли отсиживавшейся в гостинице, от стыда подальше). Известная писательница, дочь польского сенатора, фигура достаточно драматическая, В. Василевская, чья нравственность казалась мне безупречной, гневалась в коротком письме на Андрея Вознесенского, цитируя его мысли из интервью какой-то варшавской газете, находя эти мысли недостаточно патриотичными и опасно либеральными.
По прочтении этого доноса Андрей Вознесенский был «выдернут» из Свердловского зала на трибуну, и началось ильичевское действо, в котором Хрущев мог показаться премьером только на поверхностный взгляд. Из первых рядов, от лиц никому, кроме Семичастного, не ведомых, полетела в Вознесенского ругань посолонее той, которую обрушил А. Жданов на Михаила Зощенко; из президиума раздавались гневные окрики Хрущева. Вознесенский поворачивался лицом к нему, теряя микрофоны, делаясь для зала сиротливо-беззащитным. Следом к трибуне был вызван художник Голицын, «очкарик», как его окликнул Хрущев, заметив, что Голицын не аплодирует вместе со всем залом, и пошло-поехало…
Не все поняли, что у мартовского спектакля в Свердловском зале была своя сверхзадача; рассчитаться с Московской писательской организацией. Председательствующий Ильичев, «импровизируя», выпустил на трибуну В. А. Смирнова, поднявшегося вдруг с места и от лица писательских масс ставшего поносить МО СП РСФСР, наш партком и недавний пленум, посвященный молодым прозаикам и поэтам. Он громко выкрикивал из зала, а после и с трибуны фамилии Мальцева и Борщаговского, и только минутным затмением ума и памяти Хрущева я могу объяснить, что не был вызван на «ковер» я, так разгневавший в 1940 году Хрущева. Могло быть и иное: в голову не пришло, что Смирнов говорит о человеке, досадившем ему в Киеве критикой пьесы Корнейчука! С чего бы этому человеку оказаться в Кремле в собрании избранных?
Призвали к ответу секретаря парткома Елизара Мальцева, и, понимая всю безнадежность и бессмысленность серьезного спора с распоясавшейся реакцией, с организованной кликой Семичастного, он отлично сыграл этакого Швейка, простака, отвечающего невпопад, так что Никита Сергеевич только руками замахал — иди, мол, какой с тебя спрос!
Судьба партийной организации Московского отделения СП РСФСР была решена: Дмитрию Поликарпову уже не с кем было встречаться, некому оказалось читать лекцию об «антисоветчике» Василии Гроссмане и прочих врагах социалистического реализма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: