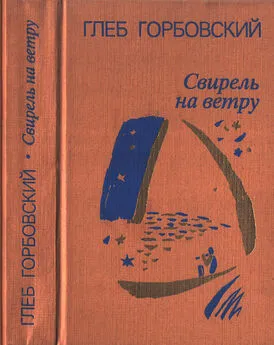Глеб Горбовский - Остывшие следы : Записки литератора
- Название:Остывшие следы : Записки литератора
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лениздат
- Год:1991
- Город:Ленинград
- ISBN:5-289-00922-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Глеб Горбовский - Остывшие следы : Записки литератора краткое содержание
Остывшие следы : Записки литератора - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И тут необходимо отметить, что родители мои сделались образованными незадолго до моего рождения, оба, хотя и порознь, окончили Ленинградский педагогический институт имени Герцена и своей образованностью весьма дорожили и наверняка гордились, так как вне этой образованности, верней — до нее, были они никто или почти никто: отец — крестьянский сын, мать — наполовину зырянская дочь, то есть представительница малого народа, к которому, по словам поэта, «Тютчев не придет». Надо ли объяснять, с каким благоговением относились мои родители к обретенной образованности, с каким тщанием соблюдали ее условности, в частности — отбор и произношение слов. Ясное дело, что преимуществом у них пользовались так называемые «культурные» слова, а всяческие вульгаризмы и архаизмы безжалостно подвергались остракизму.
Поселившаяся в той же коммуналке сестра отца и моя крестная тетка Гликерья (по другой версии — Лукерья), недавняя крестьянка, работавшая на «Скороходе» и старавшаяся выражаться на пролетарский манер, тоже нет-нет да и выпускала затрапезное словечко типа «надысь», «нешто», «сумлеваюсь», «лихоманка», «ушат», «гунявый», «хлобыстнуться». Хотя куда чаще в устах верующей Гликерьи звучали слова молитвенные, церковные, смысл которых для моего социалистического (на груди — звездочка октябренка) мозга был совершенно неуловим. Подглядывая и подслушивая за молящейся Гликерьей, которая истово, просительно смотрела в угол своей шестиметровой комнатки и при этом время от времени взмахивала рукой, словно отгоняла мух, вслушивался я во все эти торжественные «дондеже», «како», «присно», «поелику», «днесь», «агнец», «главизно», «учахуся», «за ны», вслушивался и толковал эти приглушенные, исторгаемые шепотом слова по-своему: так, часто повторяемое Гликерьей «вовеки веков» принимал я за имя собственное, за поминание теткой каких-то Вовиков, «присно» — за искаженное «пресно», а «како» — вообще за ругательство.
После того как однажды в первом часу ночи пришли за отцом и тот, прощаясь перед восьмилетней разлукой, поцеловал меня, спящего, внезапно сделавшегося полусиротой, мое сближение с «природным» в этой жизни пошло по нарастающей, и, подсчитывая теперь разницу лет, проведенных в городе и вне его, то есть в кирпичной пещере городского двора и на чистом воздухе сельщины, прихожу к выводу, что городской я действительно всего лишь наполовину, потому что не менее тридцати лет из прожитых пятидесяти шести провел вдали от Ленинграда, в сладкой тоске по его улицам, невской воде, дождливым погодам, каменным лицам его зданий, храмов, площадей, запахам его сирени, коммунальных квартир, балтийского ветра.
Хотя опять же — природное в мою жизнь вошло еще до исчезновения отца, когда ежегодно всей семьей отправлялись мы на летние каникулы в Скреблово, под Лугу, на изумительной прозрачности озера, Череменецкое в том числе. На одном из островов этого озера взрослые показали мне развалины монастыря, и с тех пор на долгие годы в моем представлении все, так или иначе относящееся к религии, церкви, монашеству, ассоциировалось прежде всего с разрушением, упадком, развалинами и запустением.
Там же, в Скреблове, пропахшем яблоками (необозримые совхозные сады!), был я впервые приобщен к таинству созревания плода на ветке, возникновения полевых цветов, мерцания на лесной вырубке душистой земляничной россыпи, образования на стебле хлебного колоса, а в пчелиных сотах — библейски мудрого меда.
Но главное — в Скреблове шестилетним мальцом успел я застать в живых своего деда по отцу — Алексея Григорьевича, придумщика нашей фамилии (от именьица Горбово), жившего тогда как бы на покое у младшей дочери Евдокии, скребловской учительницы, дремучего, как мне тогда казалось, семидесятилетнего старца, в недавнем прошлом настоящего, доподлинного русского крестьянина Псковской губернии Порховского уезда, к тому же еще и старообрядца, комната которого в скребловской школе была увешана иконами, пахла лампадным маслом, пчелиным воском, самоварным жаром.
Не помню, о чем разговаривал я тогда с дедом, помню лишь, как смотрел он на меня однажды, после очередной «буреломной» схватки со старшими родственниками, которых он называл «греховодниками» и которых тогда прогнал из своей обители, оставшись со мной наедине. Он смотрел на меня со слезой во взоре, как бы ища во мне поддержки. Белая борода его была распушена и вздыблена, будто от головы деда Алексея шел пар. Некурящий и непьющий, он, казалось, постоянно излучал какой-то неповторимо-спокойный, травянисто-банный телесный запах, вдыхать который было вовсе не противно. Так запомнилось.
Природное продлилось затем через год в похоронах этого деда; он словно пожертвовал собой для того, чтобы я впервые узнал и о тайне смерти. Прошло полвека, а я и теперь бываю на его могиле, выдираю вокруг нее буйные сорняки, посыпаю ее подножие речным оранжевым песком. Хорошее место. Правда, ютится оно у самого речного обрыва, подмываемого течением в паводок. Того гляди рухнет. Могила в бездну, или… бездна в могилу. И все это — здесь, наяву. Что же тогда — «там»? На той стороне реки Жизни?
Продолжая вычленение из собственной биографии природно-почвенных периодов, для краткости обойдусь одним лишь перечислением мест своего дальнейшего соприкосновения с натуральной школой жизни, то есть жизни вне «асфальтовых джунглей», жизни без прикрас, по которой шел я чаще всего босиком, с восторгом первооткрывателя земных чудес. Ибо всё тогда, на заре жизни, включая ужасы и уродства войны, было внове, казалось необыкновенным и даже, повергая в трепет, неподдельно восхищало.
На следующий (после прощания с дедом) год — Сиверская с ее речкой Оредеж, где поймал свою первую в жизни рыбку, серенького пескаря, и где впервые ощутил именно течение воды, стоя в ней в «натуральном виде» (скребловские, со стеклянно-неколебимой влагой озера — не в счет, не говоря о величественной, плоской и внешне недвижной невской воде, к которой почти никогда не прикасался). Затем — школа, первый класс. И не в Ленинграде, а в маленьком, «деревенском» древнем Порхове, над которым господствовал старинный холм с каменной, времен нашествия Литвы крепостью, с колокольнями церквей, тихой Шелонью, местными тайнами, сказаниями, поверьями. Причем здание школы — не каменный дворец, не храм науки, а деревенский дом, почти изба, прятавшаяся под сводами одичавшего лесопарка с его грачиными и вороньими гнездами, птичьим гвалтом.
Самое яркое впечатление от пребывания в первом классе, запавшее в голову, — это жуткий конфуз от случившегося со мной на одном из первых уроков. В Порхов тогда завезли вагон арбузов, и малышня налегала на это сочное лакомство. Учительнице надоело отпускать «нуждающихся» с урока. Бесполезно тянул я руку, покуда не понял, что или лопну, или… Со мной сидела аккуратная, чистенькая девочка, дочь местного священника отца Николая, который годом позже, во время оккупации Порхова немцами, будет преподавать нам «закон Божий». В момент, когда из-под меня по скамье побежал арбузный ручеек, соседка моя молча и как-то тактично, незаметно для посторонних глаз приподнялась над скамьей и так, в приподнятом положении, с понурой головой простояла до окончания урока. Нужно ли говорить о том, как зауважал я эту девчонку, как был ей благодарен затем, то есть — по сей день.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
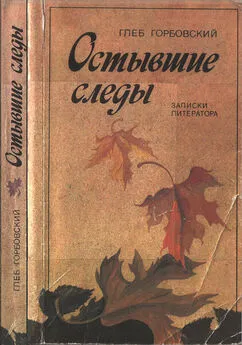

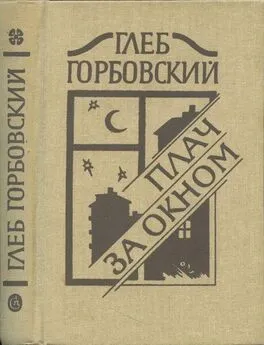
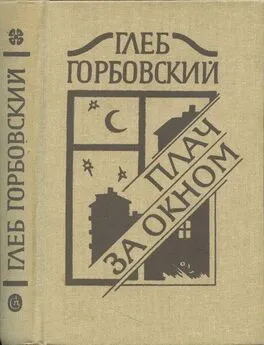
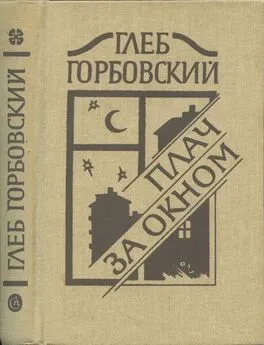
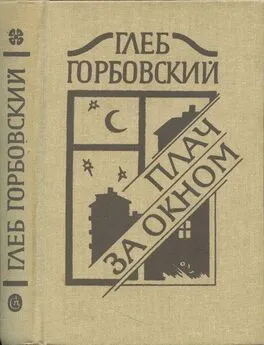

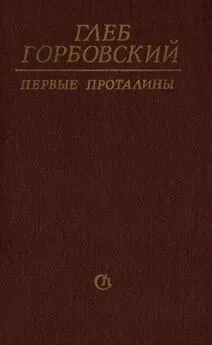

![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](/books/613415/vladimir-plotnikov-po-ostyvshim-sledam-zapiski-sle.webp)