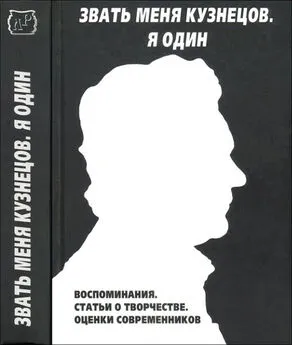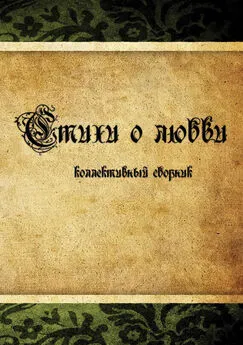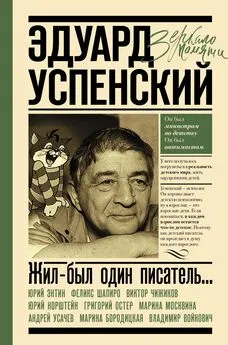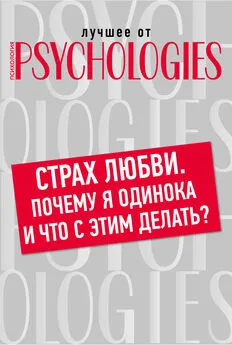Сборник Коллектив авторов - Звать меня Кузнецов. Я один.
- Название:Звать меня Кузнецов. Я один.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литературная Россия
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7809-0177-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сборник Коллектив авторов - Звать меня Кузнецов. Я один. краткое содержание
Звать меня Кузнецов. Я один. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Владимир Личутин
(Из статьи «Взгляд», 2009 год).
Личутин Владимир Владимирович(р. 1940) — писатель. Он окончил отделение журналистики Ленинградского университета. Его перу принадлежат романы «Скитальцы», «Раскол», «Любостай», «Миледи Ротман» и другие книги. Юрий Кузнецов всегда относился к Личутину с неизменным уважением и высоко отзывался о романе писателя «Раскол».
Поэма «Путь Христа» Ю. Кузнецова написана глубоко, напряжённо и, вместе с тем, свободно по форме. Кузнецову удалось разобраться в себе; ведь он был более язычник в своём творчестве; язычник в смысле формы. Он использовал народную, языческую философию, поэтическое воззрение русского человека слОвянина на природу (славянин я умышленно написал через О, потому что оно происходит от «словенские народы»). Заговорить о Православии для Кузнецова было внове. Если Рубцов был проникнут Православием, то Юрий — нет. Только генно он чувствовал Творца, но не через религию.
Владимир Андреев
(Из статьи «Тайна — причина поэзии», альманах «Литрос», М., 2010, вып. 11).
Андреев Владимир Фомич(р. 1939) — поэт. В начале 1980-х годов он был редактором книги Юрия Кузнецова «Русский узел», которая вышла в московском издательстве «Современник».
Великий дар у Кузнецова, но и его надо оценивать трезво. Он не побоялся говорить о том, что понял в Православии, а верующим не надо бояться говорить о том, что он не понял.
Елена Дедина
(Из письма в редакцию еженедельника «Литературная Россия», 9 февраля 2010 года).
Дедина Елена Ивановна— поэт. Она автор сборников «Птица Память», «О Тебе радуется…» и «Вересковый сад». Живёт Дедина в Мордовии.
Кузнецов, хотя и поэт мысли, принадлежащий к той же традиции русской поэзии, что Тютчев, Боратынский (о котором Пушкин говорил, что он «поэт мысли»), но всё-таки он поэт мысли, которая, прежде всего, опрокидывается в живой, имеющий прямое отношение к нашей текущей жизни образ. И этот образ — есть главное по отношению к той или иной мысли, к тому или иному выводу, который можно сделать из его поэзии. И этот образ всегда новый, всегда неожиданный по отношению к набору существующих понятий, существующих идеологий. И этим отличается истинный поэт от поэта так называемой, простите, «культуры». Культура, которая выводит одно понятие из других и, так сказать, этим щеголяет, она, собственно, не является культурой. Культура как ориентация человека в жизни имеет смысл только тогда, когда она непосредственно относится к текущей нашей жизни, касается нашей души — живой, сейчас существующей. Тогда она, собственно, является культурой, а не, извините, книжным производством разного рода друг из друга вытекающих понятий и любованием этими понятиями. Кузнецов совершенно не таков. Каждая его мысль опрокинута в новый, им открытый из действительности образ, и этот образ объясняет действительность чрезвычайно глубоко и далеко и вперёд, и назад. Хрестоматийный пример — это его «Атомная сказка», которая всколыхнула очень многих людей.
Пётр Палиевский
(Из стенограммы выступления учёного на конференции «Юрий Кузнецов и Россия», 17 февраля 2010 года).
Палиевский Пётр Васильевич(р. 1932) — литературовед. В 1955 году он окончил филфак МГУ и всю свою дальнейшую судьбу связал с Институтом мировой литературы им. А. М. Горького. В Союз писателей его рекомендовал Александр Дымшиц.
Однако Палиевский всю жизнь осторожничал. Когда начинались острые политические схватки, он почти всегда уходил в тень, предпочитая дирижировать процессом из-за кулис, а то и вовсе занимал выжидательную позицию. Исключением стало его участие в 1977 году в дискуссии «Классика и мы».
Вы верно подметили об одиночестве Кузнецова. Я не помню, с кем бы он дружил в Литинституте, не считая Батимы. Он был затворником и, кажется, не подпускал к себе никого близко, кроме, конечно, земляков. Одно время мы жили по соседству, в левом крыле общежития, если смотреть на Останкинскую башню. У меня складывалось впечатление — парень сам по себе. Наглухо сурком вжился в комнату-нору, иногда показывая на свет свою мордаху. Как вспоминал Шукшин о своей молодости: вынырну на свет, глотну воздуха и обратно на дно. Юра писал да читал. Иногда выползал на кухню или в магазин. В пьянках его не замечал (не в пример Льву Котюкову, который без спросу лез в компании, пьяный вёл себя по-хамски, за что и получал синяки). И удивительна, конечно, история с его походом за окно «из-за девчонки». Мы, студенты, считали, что Юра пошёл за водкой, и качали головами, ибо был более безопасный путь — через подвальные окна. К слову, водку покупали у магазинного сторожа за 5 рублей, бормотуху — дешевле.
Владимир Сорокажердьев
(Из письма Вячеславу Огрызко, осень 2010 года).
Сорокажердьев Владимир Васильевич(р. 1946) — мурманский краевед. В своё время он окончил Литературный институт и затем работал в Мурманском отделении Всероссийского географического общества.
Отношение Юрия Кузнецова к сюрреализму остаётся непрояснённым, но его интерес, открытость к окружающему Россию миру и к зарубежной культуре общеизвестны. Он переводил Байрона, Китса, Рембо, Мицкевича, свободно рассуждал о «Фаусте» и «Дон Жуане» Байрона, Вашингтоне Ирвинге и Томасе Вулфе. Волею судьбы последний раз я видел его в библиотеке Литературного института, где он брал «Логико-философский трактат» Людвига Витгенштейна, книгу, последняя фраза которой стала афоризмом: «О чём невозможно говорить, о том следует молчать».
Сергей Дмитренко
(Из выступления в ИМЛИ на конференции «Юрий Кузнецов и мировая литература», 9 февраля 2011 года).
Дмитренко Сергей Фёдорович(р. 1953) — литературовед и критик. В своё время он окончил Литературный институт. В конце «нулевых» годов критик стал шеф-редактором приложения «Литература» к изданию «Первое сентября».
Прощание с ним под высокими сводами храма Вознесения у Никитских ворот для многих запечатлелось какой-то особой тишиной напряжённого недоумения. Да разве он иссяк — под стать поздней осени за стенами? Разве всё сказал, что мог и ещё хотел выразить? Я же его совсем недавно видел — в общем зале бывшей Ленинки, в тесном пространстве на выдаче книг, где ему по какой-то причине не подготовили заказанные тома. Он был в необычном для меня волнении, почти вне себя, как-то грузно переминался с ноги на ногу, будто оскорблённый лев, готовящийся разнести в клочья и в пыль всю эту разладившуюся машинерию библиотечной обслуги. Заметив меня скошённым глазом, продолжая переминаться, он пробормотал, нет, проклокотал со своим южно-русским, кубанским придыханием: «Га?!. Что это?.. Уже и книг не дают!» Я постарался хоть как-то его утешить: «Боюсь, пора нам вообще отсюда куда-то выписываться. Больше времени уходит, чтоб заказать да получить, чем читать». Так и не знаю, дождался ли он в тот час своего заказа. Но, попрощавшись с ним, я вдруг порадовался про себя такой его по-юношески страстной книжной ненасытности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: