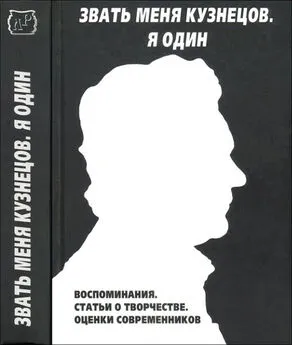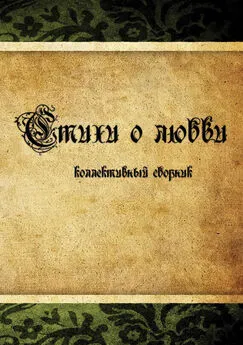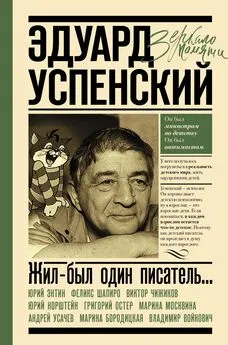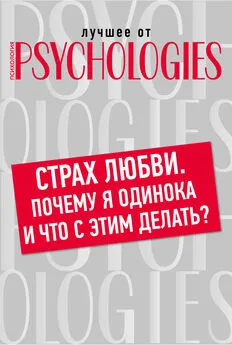Сборник Коллектив авторов - Звать меня Кузнецов. Я один.
- Название:Звать меня Кузнецов. Я один.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литературная Россия
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7809-0177-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сборник Коллектив авторов - Звать меня Кузнецов. Я один. краткое содержание
Звать меня Кузнецов. Я один. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Справедливости ради надо сказать, что когда летом 1973 года литературный генералитет собрался исключить Максимова из Союза писателей, единственным, кто выступил против, был как раз Михайлов. Он привёл два аргумента. «Одна причина, — сказал Михайлов, — это болезнь Максимова (речь шла об алкоголизме писателя); вторая — это то, что я не читал его романы (имелись в виду рукописи двух его сочинений: „Семь дней творенья“ и „Карантин“)».
Поликарпову понравилось, как Михайлов уладил дела с Максимовым. Решив, что у его инструктора возникла прочная смычка с новым главным редактором журнала «Октябрь» Всеволодом Кочетовым (хотя официально «Октябрь» в ЦК курировал совсем другой отдел — науки, школ и культуры), он тут же поручил ему разрядить ситуацию в писательском сообществе, обострившуюся после публикации кочетовского романа «Секретарь обкома».
После Кочетова Михайлов получил новое задание — заняться мемуарами Ильи Эренбурга, которые, начиная с 1960 года, частями публиковались в «Новом мире» у Твардовского. Вот где критику пришлось повертеться как ужу на сковородке. Он знал, что Эренбургом были недовольны как ортодоксы, так и либералы. Одни упрекали писателя за оправдание Сталина, другие — за попытку превознести Мандельштама. При этом в установлении полной истины ни одна влиятельная сила была не заинтересована. Но, с другой стороны, Эренбург, утратив личное доверие Суслова, оставался вхож в кабинеты других руководителей страны и вполне мог в одночасье погубить карьеру многих чиновников низшего и среднего звена и, кроме того, надолго рассорить с сильными мира сего. В конце концов подготовленную Михайловым справку, помимо него, согласились подписать также Черноуцан и Поликарпов. Аппаратчики отметили: «И. Эренбург последовательно выдвигает на первый план в истории советского искусства тех писателей и художников, которые были далеки от главной линии развития, допускали в своём творчестве заблуждения и ошибки. Апологетически оценивая таких писателей, как Мандельштам, Цветаева, Пастернак, автор воспоминаний столь же последовательно стремится приуменьшить значение тех писателей и деятелей искусства, в творчестве которых утверждались важнейшие принципы социалистической культуры <���…> В разных частях воспоминаний И. Эренбург, тенденциозно группируя факты, стремится создать представление о неравноправном положении в нашей стране лиц еврейской национальности».
Далее три функционера предложили устроить Эренбургу выволочку, но уже чужими руками — на страницах литературной печати. В «Литературе и жизни» эта неприятная миссия была поручена правоверной общественнице Лидии Фоменко. Но, как Михайлов и предполагал, Эренбург из очередного скандала вышел как раз с наименьшими потерями, а пострадали, наоборот, подписанты обвинительной справки.
Во-первых, документ тут же лёг на стол Михаилу Суслову. Главный идеолог партии, просчитав возможную реакцию Эренбурга, распорядился списать докладную записку в архив. Тогда кто-то в обход Суслова вышел на Фрола Козлова, который являлся в партии в 1962–1963 годах по сути вторым человеком и поэтому вёл не только секретариат ЦК КПСС, но даже иногда и заседания Президиума ЦК КПСС, и добился включения вопроса о воспоминаниях Эренбурга в повестку Президиума, назначенного на 7 января 1963 года. Опираясь на справку Михайлова, кто-то подготовил проект разгромного постановления по Эренбургу. Но в протокол заседания Президиума ЦК этот проект почему-то не попал. Кстати, в предложенном членам Президиума документе по непонятным причинам отсутствовали фамилии исполнителей. Видимо, это обстоятельство помогло Суслову отвести удар от Эренбурга. Правда, борьба на этом не закончилась. Вскоре в ситуацию вмешали Хрущёва. Весной 1963 года тот публично обругал мемуары Эренбурга. Однако писатель спустя несколько месяцев добился личной встречи с вождём и заставил того изменить мнение о своих мемуарах. А крайним оказался, естественно, Михайлов (не так подал в справке факты).
Впоследствии Михайлов учил уму-разуму Михаила Луконина. Он не понимал, как бывший фронтовик весной 1964 года согласился передать в Чехословакию рукопись стихов Николая Глазкова, в которой поэт «занимался самолюбованием и самовозвеличиванием и утверждал так называемую свободу слова, то есть свободу от всяких обязательств перед обществом». По его мнению, Луконина следовало за потакание аполитичным литераторам примерно наказать.
Так что никаким ангелом Ал. Михайлов не был.
В 1964 году критик на основе своей кандидатской диссертации собрался издать монографию «Лирика сердца и разума» и вступить по ней в Союз писателей. Он заручился рекомендациями Ярослава Смелякова, Александра Дементьева и Бориса Сучкова и восторженной рецензией Евгения Осетрова. При этом все ходатаи отметили не столько умение критика читать и анализировать стихи, сколько злободневность привлечённого материала (Е. Осетров) и «свободную ориентацию в сложных вопросах теории и последовательную борьбу с вульгаризацией и примитивизацией марксистской эстетики» (Б. Сучков). Естественно, бюро творческого объединения поэтов, состоявшееся 14 мая 1964 года, Михайлов прошёл без сучка и задоринки. Ведь все знали, что за ним стоял всемогущий ЦК. Несколько сложней оказалось критику пройти в мае 1965 года приёмную комиссию Московской писательской организации. Георгий Радов на ней ехидно заметил, что, несмотря на широту взглядов, Михайлов, «во-первых, кое-где принимает политическую декларацию за сущность поэзии», а во-вторых, «не всегда различает уровень поэзии, у него идейный критерий превалирует над эстетическим» (это выразилось, в частности, в сравнении Андрея Вознесенского с каким-то Спартаком Куликовым).
Михайлов, конечно же, к Пименову из-за Кузнецова не пошёл. Всё решил фронтовик Михаил Львов. Он, с одной стороны, заручился ходатайством председателя творческого бюро московских поэтов Ярослава Смелякова, а с другой — договорился со своим старым другом Сергеем Наровчатовым, имевшим большое влияние в «Литгазете». (Я почему-то считал, что Наровчатов в середине 60-х годов вёл в «Литгазете» главный отдел — литературы, но Перельмутер меня поправил. Он написал: «Просто до прихода в Литинститут Наровчатов года полтора вёл в „Литературке“ ежемесячные (два „подвала“) критические разборы-оценки поэзии, публикующейся в „толстой“ периодике. Публикации были эффектные, „резонансные“ (он, незадолго перед тем „завязавший“ с питьём, получил эту возможность с подачи своего друга Луконина, который и в институт его рекомендовал, а публикации эти послужили весомыми „обоснованиями“ той рекомендации».) И Пименов, несмотря на робкие протесты Михайлова, дрогнул. Так Кузнецов осенью 1966 года сразу второкурсником попал на семинар Наровчатова, где уже занимались двенадцать студентов: Юрий Гусинский, Владимир Демичев, Альгирдас Комендантас, Лев Котюков, Виталий Маршания, Арво Метс, Виктор Майзенберг, Вадим Перельмутер, Зинаида Подлеснова, Виктор Смирнов, Азиз Фатуллаев и Микола Федюкович (позже Гусинский, Майзенберг, Подлеснова и Перельмутер перешли на заочное отделение и их места на дневном стационаре заняли Ольга Балакина, В. Лисичкин и бывший типографский наборщик Николай Зиновьев).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: