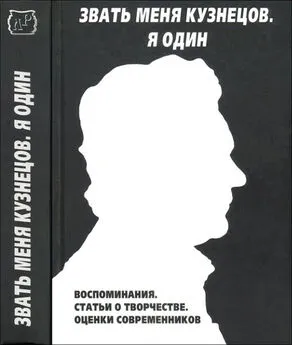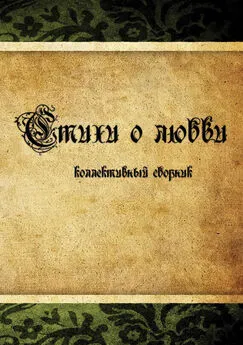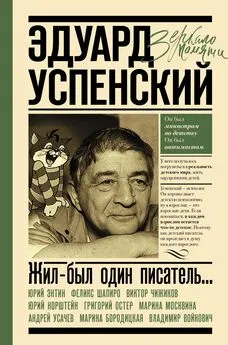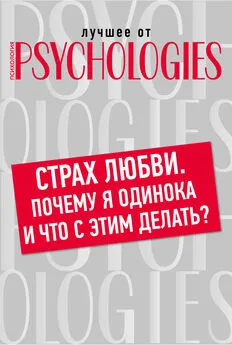Сборник Коллектив авторов - Звать меня Кузнецов. Я один.
- Название:Звать меня Кузнецов. Я один.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литературная Россия
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7809-0177-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сборник Коллектив авторов - Звать меня Кузнецов. Я один. краткое содержание
Звать меня Кузнецов. Я один. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ну а потом народ заметил, что чаще других к Кузнецову в больницу стала бегать не подружка Соловьёвой, которая, по большому счёту, и спровоцировала ночное скалолазание, а Батима.
Расписать Батиму Каукенову и Юрия Кузнецова должны были в Тимирязевском ЗАГСе Москвы 11 января 1969 года. Но ещё раньше, третьего января в Литинституте планировали справить свои свадьбы три другие пары. Одну пару составили Борис Примеров и двадцатилетняя поэтесса из Оренбурга Надежда Кондакова (свидетелями они позвали Александра Вампилова и саратовскую подружку Кондаковой — Юлию Бойчук). В двух других парах я знаю имена только женихов: прозаика из Орла Игоря Лободина (его невестой стала то ли медсестра, то ли молодая врачиха) и поэта из Карачаево-Черкессии Курмана Дугужева. Ректор Литинститута Пименов хотел, чтобы в институте сыграли не три, а сразу четыре комсомольские свадьбы (тем более, что Лободин являлся парторгом курса). Однако Кузнецов и Каукенова, дипломатично сославшись на отсутствие денег, от общей свадьбы отказались. Их волновали совсем другие проблемы. Батима не знала, как сообщить отцу, что муж у неё не казах, а русский. Это беспокоило и Кузнецова. Он тоже долго думал, что сказать своей матери. Ответ подсказали свидетели молодожёнов: Амир Гази и Любовь Соловьёва, которые уже ждали свою первую дочь.
Кстати, потом выяснилось, комсомольские свадьбы третьего января закончились со скандалом. Пока народ пировал на втором этаже Дома Герцена, где обычно проходила защита дипломов, в соседней аудитории однокурсница Примерова попыталась свести счёты с жизнью. Её еле-еле откачали.
После свадьбы Кузнецов посвятил Батиме вот эти стихи:
За сияние севера я не отдам
Этих суженных глаз, рассечённых к вискам.
В твоём голосе мчатся поющие кони,
Твои ноги полны затаённой погони.
И запястья летят по подушкам — без ветра
Разбегаются волосы в стороны света.
А двуострая грудь серебрится…
Так вершина печали двоится.
Ну а потом начались будни. Надо уже было браться за подготовку дипломов.
Из семинара Наровчатова первыми на защиту вышли Метс, Балакина и Лисичкин. Заседание госкомиссии было назначено на 6 марта 1970 года. У Наровчатова в тот день что-то не сложилось, и вместо него троицу экзаменаторам представлял Владимир Сергеевич Курочкин.
Защиты прошли ни шатко ни валко и никаких споров не вызвали. Кстати, из всех троих в литературе потом задержался один Метс. Балакина так и не избавилась от подражания Пастернаку и со своей рукописью «Талые поля», видимо, вскоре «растаяла». Как я понимаю, бросил писать и Лисичкин (хотя когда-то в него, помимо Наровчатова, достаточно много сил вложил и Илья Сельвинский). Перельмутер потом рассказывал: «Среди его детских стишков попадались недурные, их хвалили на „выездном секретариате“ — в том же актовом зале — Владимир Соколов, Анатолий Жигулин, кто-то из детских мэтров, кажется, Яша Аким, книжку в „Малыш“ рекомендовали. Да сел Володя, по пьянке избив жену, да и сгинул затем куда-то.»
12 марта подошла очередь Николая Зиновьева. Этого молодого стихотворца сдержанно похвалили поэт Сергей Васильевич Смирнов и критик Бор. Леонов. Но против выступил член госкомиссии Сергей Поделков. Прослушав несколько стихотворений в исполнении Зиновьева, он заметил: «Всё очень холодно, искусственно». Однако позже Зиновьев проявил себя в другом, став сочинять незатейливые тексты для Раймонда Паулса, Владимира Мигули и других популярных композиторов.
Кузнецов защищался сразу после Зиновьева. Свою рукопись он назвал «Пространство». Отзывы на его работу представили Сергей Наровчатов, Владимир Мильков и Сергей Артамонов. Правда, сам Наровчатов на заседание госкомиссии, как обычно, явиться не смог. Его краткую рецензию озвучил Владимир Лидин. Как и следовало ожидать, Наровчатов главный акцент сделал на «Атомной сказке».
«Мне давно уже представляется, — подчёркивал мастер, —что современная наука, подобно Фаусту, продала душу чёрту, и что получается из этой сделки — никому неизвестно. В „Атомной сказке“ рука молодого поэта бесстрашно нащупывает узел противоречия между естественностью и анализом, познанием и результатами. И это малая часть тех граней, которые можно разглядеть в этом стихотворении».
Что сказал на защите второй оппонент — критик из подмосковного Чехова Мильков, мне пока выяснить не удалось. В стенограмме заседания госкомиссии я обнаружил лишь реплику Сергея Поделкова на выступление Милькова. Бывший узник ГУЛАГа не удержался и повторил коллегам одну цитату из Кузнецова: «И снова за прибрежными деревьями выщипывает лошадь тень свою». «Прелестные строки», — добавил Поделков.
Более критичным оказалось выступление литературоведа Сергея Артамонова. Он отметил:
«В стихах Кузнецова есть кое-что от моды (об этом несколько позднее…), но, думается, если это и „мода“, то она стала частью натуры самого автора и потому уж, видимо, и не мода.
Юрий Кузнецов бесспорно талантлив. Талант — это редкостное умение найти из россыпи слов одну-единственную неповторимую песчинку — нужное слово. Его эпитеты много значат! Вот человек с „мирной осмотрительной судьбой“. Здесь в слове „осмотрительной“ целый кодекс жизни, характер, философия.
А вот „под дыханьем позднего тепла обманутая вишня зацвела“.
Обманутая вишня! — Это хорошо. Это слово открывает даль. Это тоже мысль, философия. В стихотворении „Бумажный змей“ такие строки:
Куда он взлетает, мой мир молодой,
Наверно, с земли и не видно.
Вот только сильнее мне режет ладонь
Суровая длинная нитка.
И здесь философский подтекст, и это „мой мир молодой“ хорошо, поэтично и многозначительно.
В стихах Кузнецова ощущается какая-то большая печаль. Она присутствует почти в каждой строке.
Другу друга не просим участия
В этой жизни опасной земной,
Для старинного смертного счастья
Милый друг возвратится домой.
Но в финале этого „возврата домой“ „Пустота — никого! Ничего!“ О чём печалится поэт? Что гнетёт его? — В стихах ответа нет.
Настроения заказать нельзя, как нельзя приказать человеку быть весёлым, да и нужно ли пошлое бодрячество? Мир сложен. Поэт имеет право на философские раздумья, они не всегда могут быть весёлыми. У человечества много нерешённых проблем. Словом, меланхолическая окраска поэзии Юрия Кузнецова вполне объяснима.
Но есть нечто, о чём хотелось бы поспорить с поэтом, что я назвал бы „модой“, и мода эта — и у нас, и за рубежом — этакий детский протест против цивилизации и детская печаль об утраченной патриархальности. У Юрия Кузнецова особенно наглядно это выражено в стихотворении „Атомная сказка“.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: