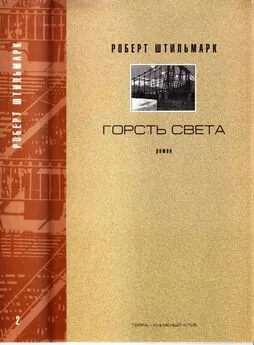Филипп Вигель - Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая
- Название:Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский Архив
- Год:1891
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филипп Вигель - Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая краткое содержание
Множество исторических лиц прошло перед Вигелем. Он помнил вступление на престол Павла, знал Николая Павловича ещё великим князем, видел семейство Е. Пугачева, соприкасался с масонами и мартинистами, посещал радения квакеров в Михайловском замке. В записках его проходят А. Кутайсов, князь А. Н. Голицын, поэт-министр Дмитриев, князь Багратион, И. Каподистрия, поколение Воронцовых, Раевских, Кочубеев. В Пензе, где в 1801–1809 гг. губернаторствовал его отец, он застал в качестве пензенского губернатора М. Сперанского, «как Наполеона на Эльбе», уже свергнутого и сдавшегося; при нём доживал свой век «на покое» Румянцев-Задунайский. Назначение Кутузова, все перипетии войны и мира, все слухи и сплетни об интригах и войне, немилость и ссылка Сперанского, первые смутные известия о смерти Александра, заговор декабристов — все это описано Вигелем в «Записках». Заканчиваются они кануном польского мятежа. Старосветский быт, дворянское чванство, старинное передвижение по убогим дорогам с приключениями и знакомствами в пути, служебные интриги — все это колоритно передано Вигелем в спокойной, неторопливой манере.
Издание 1891 года, текст приведён к современной орфографии.
Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я обещал несколько новых портретов, некоторые уже намарал, а остается еще довольно. При представлении их я не буду, как в Киеве, следовать порядку адрес-календаря: Пенза всегда была город дворянский, а не казенный. Но как надобно какого нибудь порядка держаться, то я разделяю их на врагов, на приятелей и на преданных дому нашему.
В числе первых к сожалению находились два семейства, дотоле связанных с моими родителями узами самой тесной дружбы. Одно из них, семейство Ступишиных, состояло из четырех лиц и трех поколений. Я только что говорил об Агнии Дмитриевне, которую видел в Зубриловке; у неё была мать, у неё был муж, у неё была дочь. Сама она была женщина простая, суетливая, ни добрая ни злая и великая хлопотунья. За то мать её, Елизавета Петровна Леонтьева, была одарена необыкновенным умом, которым прикрывала все недостатки старинного воспитания; будучи малочиновная и небогатая вдова, и не самой строгой нравственности, она умела себя поставить на такую ногу, что никто не смел ей отказывать в знаках наружного уважения. Когда же она единственную дочь свою выдала за Пензенского губернатора, тогда похищенное ею право первенства обратилось в законное, неоспоримое.
Иван Алексеевич Ступишин открывал Пензенскую губернию, был первым в ней губернатором. Трудно было найти человека, у которого голова была бы пустее; а между тем он избран Екатериной и, что еще удивительнее, выбор сей нельзя было осудить. Находившись долго в военной службе, он был из числа тех строгих, точных исполнителей даваемых им предписаний, которые бывают полезны там, где умствования могли бы только запутывать дела. Как он был нрава серьёзного и весь исполнен чести, доброты и справедливости и как он попал в то счастливое время, когда правительство само поддерживало поставляемых им начальников, то, волею или неволею, все почтительно ему повиновались. К тому же и дел сначала было немного; и в них, кажется, было столь же мало отвлеченностей, как и в мыслях Ивана Алексеевича. Оставив службу, он редко показывался в Пензе, хотя и жил в тридцати верстах от неё, в деревне своей Пановке.
Полученное им довольно большое наследство после брата и пожалованное ему имение, вместе с небольшим родовым, составило ему до полутора тысяч душ; а как у него была одна только дочь, то и могла она почитаться богатою невестой, особенно в провинции.
Эта молоденькая, беленькая, полненькая дочь его, Александра Ивановна, имела самое приятное из дурных лиц. Её воспитанием занималась преимущественно умная бабка её Леонтьева, и хотела им прославиться, стараясь одарить ее всем, чего в самой недоставало, и не щадя на то денег. Внучка оправдала её ожидания: от всех других девиц в Пензе отличалась скромностью, любезностью, знала иностранные языки и по-французски выражалась, как говорили тогда на нём в большом свете; много читала, переводила и казалась чуждою даже маленьким девичьим сплетням. Голос её был приятный и в согласии с нежностью, с чувствительностью, которые, как имел я случай узнать после, были в ней не столько врожденные, как внушенные иностранными гувернантками.
Никто из молодых людей (которых, впрочем, было немного) не смел к ней подступиться, и если бы маленькое, едва заметное предпочтение не ободрило старшего брата моего Павла, которому она чрезвычайно нравилась, то он довольствовался бы любить ее в молчании. Однако же, они поняли друг друга, воспламенились и объяснились; но девица Ступишина, зная уже виды и надежды, не столько родителей, как гордой честолюбивой бабки, просила его до удобного случая хранить их взаимную страсть. И действительно, г-жа Леонтьева, выдав глупую бедную сироту свою за генерал-поручика и губернатора, могла надеяться, что такая внука будет за канцлером или за фельдмаршалом. А между тем девочке, восторженной от чтения романов, довольно приятно, в тиши уединения, наяву длить собственный роман. Один учитель, француз (эти люди всегда мешаются в любовные дела), который прежде того давал уроки, часто навещал Пановку, отвозил туда письма от брата и привозил оттуда на них ответы. Письма её были по-французски, а как брат мой на этом языке говорил нехорошо, а писал еще хуже, то тот же самый француз, более со слов, переводил русские его письма, а он уже потом списывал. Когда случилось мне после читать эти послания молодой Ступишиной, то мне казалось, что страсть и искусство выражать ее далее идти не могут; но еще позднее, когда я более начитался романов, нашел в них целые страницы, уже мною читанные. Как всё это более переписывалось чем сочинялось, то никакая любовная переписка названия сего так не заслуживает.
Прошло несколько месяцев, и оба семейства, ничего не подозревая, продолжали свои дружественные сношения и, несмотря на тридцать верст расстояния, довольно часто друг друга посещали. Наконец робкая дева осмелилась признаться во всём отцу, который одобрил её желания, и она поспешила сообщить о том моему брату.
В нетерпеливой радости своей он обратился к родителям, и они нашли всё это делом весьма обыкновенным, естественным. Партия была самая выгодная, неравенство могло только быть в одном состоянии; к тому же в провинции это могло казаться соединением двух династий. Но не так думали Леонтьева и дочь её; узнав истину от неосторожного старика, они в два-три дня успели совсем сбить его с толку, и когда мать моя приехала к ним с формальным предложением, то госпожа Леонтьева, от имени всех, не весьма искусно, но довольно учтиво сделала отказ.
Можно себе представить, что из того после произошло, видя с одной стороны женщину живую, самолюбивую как мать моя, а с другой — раздраженную, бранчивую дуру Леонтьеву и дочь её, и между ними услужливых сплетниц и переносчиц. Более года прошло после этого разрыва, когда во второй раз приехал я в Пензу, и вражда была тогда во всей силе; за то и любовь молодых людей также не угасала, и тайная переписка продолжалась еще года два.
Другое семейство, о коем я упомянул, было некоторым образом продолжением первого. Говоря о молодости отца моего и о первых связях его в Пензе, я назвал Ефима Петровича Чемесова, мужа древних времен. Более тридцати лет существовала у него с отцом моим дружба старинная, непоколебимая. Он был еще довольно молод, когда беспощадный для дворян Пугачевский бунт достигнул Пензы. Все бежали. Он остался, примером своим ободрил некоторых молодых помещиков и, пользуясь доверенностью и уважением, которые имел даже между простым народом, из господских людей, из мещан и из нескольких поселян успел собрать почти целый полк, который вооружил наскоро и назвал уланским; надобно знать, что ни сам он и никто из его сподвижников никогда не бывал в военной службе [86]. С этим войском он выступил против неприятеля, но к счастью был так умен и осторожен, что не хотел дать себя и людей своих даром зарезать. Сила мятежников была уже так велика, что при первом появлении его бы истребили; он довольствовался вести партизанскую войну, нападать врасплох на отряды вражьи, отбивать конвои, затруднять сообщения, спасать бегущих от злодеев, сохранять дух повиновения в крестьянах. Он ничего не брал у жителей, ничего не стоил казне, и содержал команду свою единственно отхваченным у мятежников. Удивительно, что такие подвиги не были награждены, но в них самих находил он уже себе награду; ибо этою эпохой, по всей справедливости, всю жизнь свою гордился. Несколько времени был он потом провинциальным прокурором и наконец воеводою (с ним и прекратилось Пензенское воеводство). Так как маленькое тщеславие всегда бывает слабая сторона добродушных людей, то и он не был его чужд: на низком каменном жилье построил он обширный деревянный дом, поныне еще существующий, и сколь возможно лучше, по тогдашнему времени, его убрал; почитая себя представителем царской власти, он назвал его дворцом, и когда в торжественные дни после молебна приглашал он к себе чиновников обедать, то всегда говорил: «Покорно прошу ко мне во дворец».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: