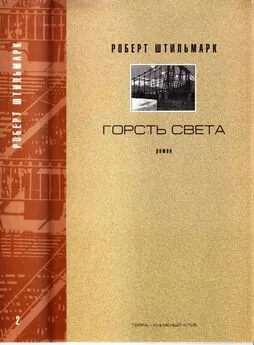Филипп Вигель - Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая
- Название:Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский Архив
- Год:1891
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филипп Вигель - Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая краткое содержание
Множество исторических лиц прошло перед Вигелем. Он помнил вступление на престол Павла, знал Николая Павловича ещё великим князем, видел семейство Е. Пугачева, соприкасался с масонами и мартинистами, посещал радения квакеров в Михайловском замке. В записках его проходят А. Кутайсов, князь А. Н. Голицын, поэт-министр Дмитриев, князь Багратион, И. Каподистрия, поколение Воронцовых, Раевских, Кочубеев. В Пензе, где в 1801–1809 гг. губернаторствовал его отец, он застал в качестве пензенского губернатора М. Сперанского, «как Наполеона на Эльбе», уже свергнутого и сдавшегося; при нём доживал свой век «на покое» Румянцев-Задунайский. Назначение Кутузова, все перипетии войны и мира, все слухи и сплетни об интригах и войне, немилость и ссылка Сперанского, первые смутные известия о смерти Александра, заговор декабристов — все это описано Вигелем в «Записках». Заканчиваются они кануном польского мятежа. Старосветский быт, дворянское чванство, старинное передвижение по убогим дорогам с приключениями и знакомствами в пути, служебные интриги — все это колоритно передано Вигелем в спокойной, неторопливой манере.
Издание 1891 года, текст приведён к современной орфографии.
Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ни с Жуковским, ни с Шаликовым не нашел я приличным назвать вместе Владимира Васильевича Измайлова. Он, говорят, был человек почтенный и добрый, только также чересчур вдавался в ложную чувствительность. Недавно попытался я прочесть Путешествие его в полуденную Россию; и что же? слогом отменно опрятным написаны всё пустяки, о коих не стоило говорить. Нет возможности читать это наркотическое произведение: скука и зевота так и одолевают.
Около 1806 года Карамзин перестал издавать Вестник Европы и передал его молодому другу своему, Жуковскому. Я говорил уже об этом журнале в предшествующей части сих Записок. Примечательно в нём было быстрое развитие таланта издателя, и до того уже необычайного; он рос не по дням, а по часам, так что сама Бедная, милая Лиза уже казалась девчонкой в сравнении с величественною Марфой: что эта за красота, и что за сила в её изображении! С этого времени он умолк и предался великому, бессмертному труду, с высочайшего соизволения им предпринятому.
Про другие московские тогдашние журналы слышал я только вскользь. Помню, что еще до Вестника при Московских Ведомостях еженедельно выдавался литературный листок, под названием Ипокрены, и что сей мутный, неприметный ручей тек без всякого шума. После, если не ошибаюсь, были и Эфемериды ; а после еще и Меркурий, издаваемый Макаровым, про который я уже говорил. Вдруг вздумалось затейнику Макарову 2-му, который первому совсем не не был родня, объявить об издании Амура, под вымышленным именем небывалой княжны Елизаветы Трубецкой. Дорого было пришлось ему расплатиться за эту совсем неумную проказу: все Трубецкие восстали, и начальство архивское едва могло дело сие утушить. Эротическими названиями надеялись эти господа привлекать и женщин. Таким образом явилась и Шаликовская Аглая, и были читатели, которые дуру эту принимали за Грацию.
Совсем в ином духе, в ином роде показался, наконец, Русский Вестник. Для успехов более всего нужно умение выбирать время. Когда изданием сего журнала Сергей Николаевич Глинка сделался известен, москвичам начинало уже тошниться от слащенного рвотного, приготовляемого другими журналистами и их сотрудниками, и любовь к отечеству приметно возрастала с видимо умножающимися для него опасностями. Глинка был истинный патриот, без исключения превозносил всё отечественное, без исключения поносил всё иностранное. Пусть ныне смеются над такими людьми: я люблю их непреклонный характер целиком. В обстоятельствах, в которых мы тогда находились, журнал его, при всём несовершенстве своем, был полезен, даже благодетелен для провинций.
Они с Николаем Николаевичем Муравьевым в одно время сделались в Москве основателями двух своекоштных, военных, патриотических школ. Воины были тогда нужнее всего. Муравьев взялся образовать молодых дворян для пополнения ими великого недостатка в офицерах, чувствуемого в генеральном штабе и по части артиллерийской и инженерной. Преподавая им высшие математические науки, он вселял в них и высокие чувства народной гордости. Глинка захотел быть просветителем донских казаков и принялся за ум и за сердце пылких, диких мальчиков. Довольно грубым, но пламенным и им понятным языком вливал он в них любовь к познаниям и к великому их Российскому отечеству.
Кто ныне решится на столь славные и бескорыстные подвиги? Кто хвалит их, или кто помнит их? Или, лучше, кто знает об них? Конечно патриотизм, эта неземная любовь к земному, есть чувство, которое в самом себе находит муку и отраду: его ни поощрять, ни награждать нечего. Но всё-таки кажется, что совершенное забвение и, еще хуже того, строгое наказание не должны же быть следствием сей, по крайней мере, простительной страсти. Один из тех, о коих говорил, давно забытый, окончил век в сельском уединении; другой просидел на гауптвахте за неумышленное упущение по цензуре, но скорее за чистосердечную неукротимость свою, что навсегда и положило хранение устам его. Почтенные люди, если после меня в каком-нибудь углу уцелеют небрежно составляемые мною Записки, то потому уже почитаю их достойными хранения, что о заслугах ваших скажут они более нас, может быть, благодарному потомству.
Да что же ты ничего не говоришь о сенаторе-кураторе Кутузове? Скажут мне, что с ним сделалось? Или что он делал? Он отмалчивался, ни с кем не ссорился и оставался представителем и корреспондентом Петербурга.
Гораздо опаснее его и гораздо его сердитее был новый противник, который сначала тайно, а потом явно восставал на Карамзина. Он, также как и Зоил, был родом и душою грек, находился профессором истории в Московском университете и назывался Михаил Трофимович Каченовский. Все недруги его, а их было много, отдавали справедливость его уму и учености; но вместе тем имел он все те ненавистные свойства, которые отличают греков нынешнего и всех прошедших времен и которые после имел я случай так коротко узнать: беспокойный дух, ужасное высокомерие, пронырство, неблагодарность, раздражительность и вечная жажда мести. Можно себе представить, как всё выше и выше полет Карамзина должен был терзать его мрачную душу. Долго, весьма долго один парил, как орел; а другой не переставал шипеть, как змея.
В это же время в Москве явилось маленькое чудо. Несовершеннолетний мальчик Вяземский вдруг выступил вперед, и защитником Карамзина от неприятелей, и грозою пачкунов, которые, прикрываясь именем и знаменем его, бесславили их. Один из богатых и просвещеннейших московских вельмож, князь Андрей Иванович Вяземский, вручил судьбу и руку прекрасной любимицы своей, дочери сердца своего, другу своему Карамзину и, чувствуя приближение смерти ему же поручил воспитание и будущую участь единственного малолетнего своего сына. Со всею силой нежного и пылкого сердца, ребенок привязался к зятю, опекуну, второму отцу своему; а этому казалось, что Бог даровал ему сына, и какого же? — исполненного благородства, ума и чувствительности. Может быть, снисходительность, слепое к нему пристрастие его, после, во многом повредили отроку, который слишком рано захотел быть юношей и мужем, Карамзин никогда не любил сатир, эпиграмм и вообще литературных ссор, а никак не мог в воспитаннике своем обуздать бранного духа, любовью же к нему возбуждаемого. А впрочем что за беда? Дитя молодое, пусть его тешится; а дитя куда тяжел был на руку! Как Иван-царевич, бывало князь Петр Андреевич, кого за руку, рука прочь, кого за голову, голова прочь. И это было в Москве, где всегда с нежным восторгом говорят о Западе и стараются подражать ему, а между тем в обыкновенном быту сохраняют все навыки Востока, где глупцы всегда стояли и стоят еще под защитою законов целого общества, высшего, низшего; где животные всякого рода хранимы также всеобщим скотолюбием, как в Цареграде собаки и кошки; где юродивые почитаются существами священными, как делибаши во всей Азии. В этом странном, старинном русском, европействующем городе, где всякий, не опасаясь названия клеветника, не обинуясь, может по заочности такого то и такого-то, иногда весьма честного человека, назвать мошенником, вором, злодеем, беда если кто острым словцом заденет дурака; а из Вяземского они так и сыпались.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: