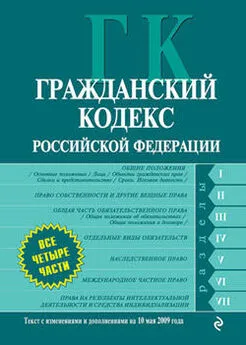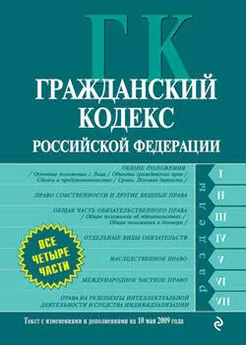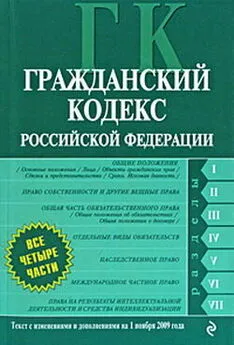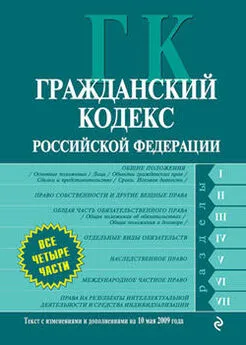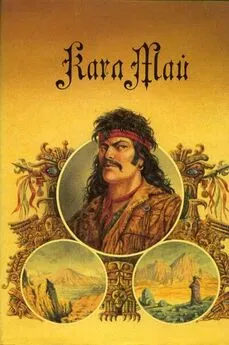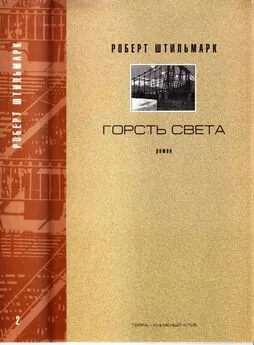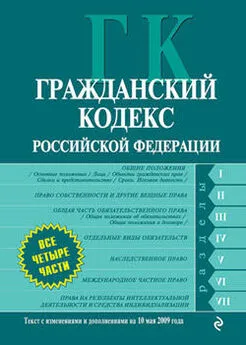Филипп Вигель - Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая
- Название:Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский Архив
- Год:1891
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филипп Вигель - Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая краткое содержание
Множество исторических лиц прошло перед Вигелем. Он помнил вступление на престол Павла, знал Николая Павловича ещё великим князем, видел семейство Е. Пугачева, соприкасался с масонами и мартинистами, посещал радения квакеров в Михайловском замке. В записках его проходят А. Кутайсов, князь А. Н. Голицын, поэт-министр Дмитриев, князь Багратион, И. Каподистрия, поколение Воронцовых, Раевских, Кочубеев. В Пензе, где в 1801–1809 гг. губернаторствовал его отец, он застал в качестве пензенского губернатора М. Сперанского, «как Наполеона на Эльбе», уже свергнутого и сдавшегося; при нём доживал свой век «на покое» Румянцев-Задунайский. Назначение Кутузова, все перипетии войны и мира, все слухи и сплетни об интригах и войне, немилость и ссылка Сперанского, первые смутные известия о смерти Александра, заговор декабристов — все это описано Вигелем в «Записках». Заканчиваются они кануном польского мятежа. Старосветский быт, дворянское чванство, старинное передвижение по убогим дорогам с приключениями и знакомствами в пути, служебные интриги — все это колоритно передано Вигелем в спокойной, неторопливой манере.
Издание 1891 года, текст приведён к современной орфографии.
Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Великую страсть имела г-жа Мятлева являться на сцене в домашнем театре, разумеется, во французских пьесах. Белосельские и Чернышовы, молодые путешественники, возвратившиеся с клеймом Версаля и Фернея, Кобенцели и Сегюры, чужестранные посланники, отличавшиеся любезностью, ввели представления сии в употребление при дворе Екатерины. Избраннейшее общество участвовало в сих просвещенных забавах, и Эрмитаж был одним из каналов, чрез кои начало вливаться к нам могущество Франции. Сюрпризы именинникам были тогда также новостью и принадлежностью одного высшего общества. Большие затеи приготовлялись тогда в Марфине к 23 и 24-му июня, дням рождения и именин фельдмаршала.
Вероятно лицо мое выражало страсть к театру, ибо намерение завербовать меня в число актеров заставило пригласить меня в Марфино. Но как не только мне самому никогда не случалось играть, я всего не более семи или восьми раз бывал в театре: то легко можно себе представить, как при первой попытке исчезли надежды на удачное мое соучастие в предпринимаемом важном деле. Мне, однако же, не показали ни малейшего неудовольствия; это было бы уже слишком жестоко: напротив, первую робость, застенчивость мальчика, взброшенного в едва знакомый ему круг, дня через два приветствиями, вниманием умели превратить в смелое, свободное обхождение; и как мне всё нравилось, то, кажется, я и сам полюбился. Я не помню, чтобы где-нибудь потом я так живо, так искренно, так безвинно всем наслаждался, как тогда в деревне гр. Салтыкова. Начиналась только весна моей жизни, и это было в первые месяцы владычества Александра, когда в воображении подданных он был еще прекраснее чем в существе, когда все стремились ему уподобиться, когда исчезли ужасы, погасли зависть и вражда и, возлюбив друг друга, в единомыслии все русские мечтали только о добре… В первый раз был я совершенно свободен, в самое благоприятное время года, в прекрасном поместье, где жили непринужденно, и одни веселости сменялись другими. Может быть (кто не без греха, даже и дети), любезность ко мне семейства, которое уважалось в Петербурге и коему поклонялась вся Москва, льстила моему самолюбию; может быть, очарование маленького двора, к коему начинал я принадлежать, сильно на меня подействовало; но всё вместе исполнило меня чувством такого благосостояния, что оно выражалось у меня в словах, во взглядах, во всех движениях. И потому-то, как было всем не улыбаться моей юности и моему счастью!
Графиня Салтыкова с каждым днем становилась ко мне милостивее. Поощряемый возрастающим её снисхождением, я решился раз сказать ей со всею откровенностью, что в Марфине я вижу убежище, которое равно спасает меня как от весьма нетягостной власти сестры моей, так и от тяжкого ига г. Бантыша-Каменского, и она обещалась у обоих испросить мне дозволение еще на некоторое время не расставаться с моим эдемом [52].
Общество наше было многочисленное. Всякий день приезжали гости из Москвы; постоянными же жителями Марфина были все те, кои должны были участвовать в сюрпризах и представлениях: музыканты, певуны, дамы и девицы, взявшие роли. Между сими последними встретил я прежних своих знакомок, трех молоденьких книжен Хованских, дочерей бывшего Киевского вице-губернатора, который при Павле был обер-прокурором Синода, а потом отставлен и сослан в Симбирск, откуда только что воротился. Сильно забилось во мне сердце при сей встрече, и они, кажется, не без удовольствия увидели товарища своего детства; но взаимные отношения наши совсем уже переменились. В меньших я нашел еще простодушие и невинность первого возраста, но в старшей, Наталии, ничего уже не оставалось детского. В шестнадцать лет, смелые её взоры уже искали высоких жертв и, к счастью, почти на мне не останавливались. Пленительный голос её всех удивлял, и она готовилась восхищать им в опере Паэзиелло La Servante Maîtresse.
Сверх того, еще две оперы: одна старинная французская, Два охотника , и русская Мельник, да две прескучные комедии Мариво были представлены в три дня, что продолжались марфинские увеселения. Исключая г-жи Мятлевой, которая игрой напоминала мадам Вальвиль, и княжны Хованской, которая пела и играла как записная артистка, все прочие мне показались довольно плохи; особенно же мужчины, с своим Нижегородско-французским выговором, совсем не за свое дело взялись. Всего примечательнее была пьеса, интермедия, пролог или маленький русский водевиль под названием: Только для Марфина , сочинение Карамзина. Содержание, сколько могу припомнить, довольно обыкновенное: деревенская любовь, соперничество, злые люди, которые препятствуют союзу любовников, и нетерпеливо ожидаемый приезд из армии доброго господина, графа Петра Семеновича, который их соединяет; потом великая радость, песни и куплеты оканчивают пьесу. Так как все роли были коротенькие, то одну из них, роль бурмистра, мне поручили. Я надел русский кафтан, привязал себе бороду и старался говорить грубым голосом. Как нарочно пришлось спеть мне следующий куплет:
Будем жить, друзья, с женами.
Как живали в старину.
Худо быть вам их рабами,
Воля портит лишь жену.
Дома им не посидится,
Всё бы, всё бы по гостям.
Это право не годится,
Приберемте их к рукам.
Вахмистр.
Наш бурмистр несет пустое.
Не указ нам старина.
Воля дело золотое, и проч.
Другие представления даны были в небольшом деревянном театре, построенном в саду; но мы играли днем, на открытом воздухе. В двух верстах от господского дома, среди прекрасной рощи, названной Дарьиной, поляна, состоящая из двух противоположно-идущих отлогостей, образовала природный театр; сцена заключалась в правильном продолговатом полукружии: тут первый раз в жизни, чуть ли не в последний, являлся я перед публикой.
Сам Карамзин приехал накануне представления, учил нас и даже играл с нами графа Петра Семеновича Салтыкова. Я обомлел, когда невзначай пришлось ему сказать мне несколько слов: власти и заслуженные почести всегда вселяли во мне уважение, но этот благоговейный страх могли произвести только добродетели и высокий талант. Встретившись с сим необычайным человеком, я бросаю на время марфинские забавы, чтобы предаться наслаждению говорить об нём.
Уже был он известен, уже был он славен, уже зависть и клевета в страшное царствование Павла восставали, чтоб его погубить. Но Бог России хранил его; под Его щитом, с кротостью улыбаясь самим врагам своим, шел он спокойно, смиренно, прекрасною, цветущею стезею, ведущею его к цели, которую, вероятно, тогда еще сам он не предугадывал. До него не было у нас иного слога, кроме высокопарного или площадного; он изобрел новый, благородный и простой, и написал им путешествие свое за границу и пленительные повести, кои своею новостью так приятно изумили Россию. Можно сказать, что он же создал и разговорный у нас язык и был основателем новой школы, долго поддерживавшей лучшие правила в литературе. Казалось, чего бы более для обыкновенного авторского самолюбия? Но он не знал его, а творениями своими, как врожденным добром, делился с читателями. Скоро почувствовал он еще другое, высшее призвание; скоро лавры должны были заступить место роз, блиставших на молодом челе его. Не тщетно получил он от природы трудолюбие и жажду к познаниям, не даром даны ему были пламенное сердце, высокий ум и чистые уста; ими предназначено ему было вещать современникам и потомству о древней, почти забытой славе предков. Он должен был дать новую бесконечную жизнь Васильку и Мономаху, Ляпунову и Скопину-Шуйскому и грозно судить грозного царя. Промыслу угодно было, как в чистейшем сосуде, воспалить в нём жар просвещенной любви к отечеству, угасавший между высшими сословиями от безрассудной страсти к иноземному, — не грубый, самохвальный патриотизм провинциалов и невежд. Следуя за духом века, напрасно завистливые соперники хотят затмить его славу, стараются своими помоями залить священный огонь, им распространенный; от времени до времени он более умножается и усиливается.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: