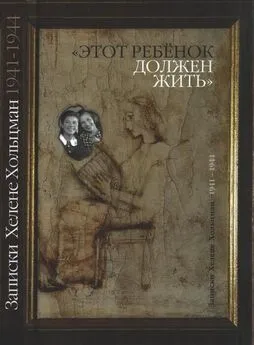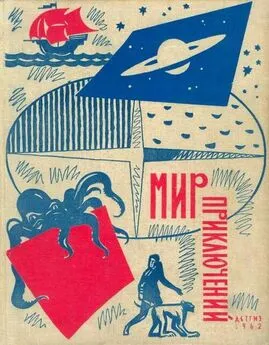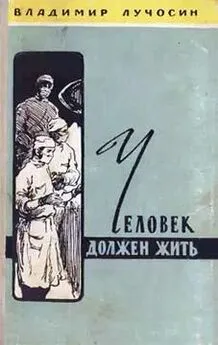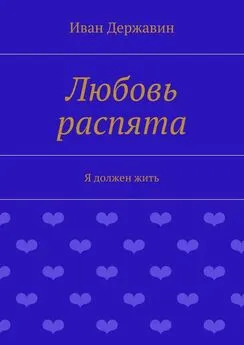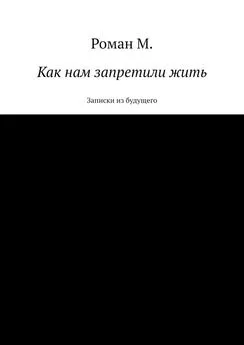Хелене Хольцман - «Этот ребенок должен жить…» Записки Хелене Хольцман 1941–1944
- Название:«Этот ребенок должен жить…» Записки Хелене Хольцман 1941–1944
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое Литературное Обозрение
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-450-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хелене Хольцман - «Этот ребенок должен жить…» Записки Хелене Хольцман 1941–1944 краткое содержание
«Этот ребенок должен жить…» Записки Хелене Хольцман 1941–1944 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Террор на время утих. В конце августа вышел указ: сдать все наличные деньги, разрешается оставить не более 10 имперских марок на человека, а также все ценности, украшения, ювелирные изделия, золото, серебро, электрические приборы и меха. Многие, конечно же, попытались спрятать хотя бы часть своего имущества. Новое распоряжение нагнало столько страху, тем более, что человек двадцать за сокрытие ценностей расстреляли на месте. Немецкая полиция и литовские партизаны вместе обыскивали дом за домом, один двор за другим, каждую каморку, всякий закуток. Вламывались по несколько раз в одно и то же жилище, переворачивали все вверх дном и тащили при этом все, что приглянется. Некоторым, правда, удалось все-таки уберечь от бандитов кое-что, спрятали, как смогли, но большинство безропотно отдали все, чего бы ни потребовали, и оставались совершенно разоренными.
Продукты теперь выдавались только в государственных магазинах, но пайки стали гораздо скуднее. За 200 граммов хлеба — часовые очереди. Масло, сало и мясо и вовсе исчезли. Из города в деревню приходилось везти овощи, картошку. По дороге на работу и с работы иногда удавалось прикупить чего-нибудь на черном рынке. А он распространился уже повсюду: по дворам фабрик, по стройкам, по конторам. Везде торговали из-под полы и меняли, как одержимые. После конфискаций в городе особенно вырос спрос на обычную одежду, на самые элементарные предметы обихода. Узники гетто умудрялись обменивать оставшееся у них тряпье на продовольствие и тем жить. Всякие гешефты с евреями были, понятно, под запретом. Но часовые, особенно немецкие, часто смотрели на это дело сквозь пальцы. И все же обе меняющие стороны сильно рисковали. Литовцев за это хватали частенько, те неделями сидели в тюрьме. Один как-то раз обнаглел до того, что прилюдно на улице пожал еврею руку, за что был сурово наказан одной неделей тюрьмы, а его имя растрезвонили по городу газеты, чтобы другим неповадно было.
Йордан застукал как-то на рынке в старом городе еврея, который что-то такое сменял на четыре повозки овощей, чтобы потихоньку, в обход часовых, перекидать все это добро через колючую проволоку своим в гетто. Йордан застрелил беднягу из собственного пистолета на глазах у публики, овощи раздал бабам, а те в полном восторге, что такой куш свалился на них даром, быстренько побежали по домам, нагруженные капустой и свеклой. Спустя пару недель я слышала, как одна хвасталась, сколько добра ей тогда удалось урвать.
Торговля шла прямо у колючей проволоки. Крестьяне прямо по улице Ландштрассе подъезжали к гетто. Часовым давали взятку, а частенько они сами участвовали в обмене. Мебель и швейные машинки обменивались на мясо и масло. К гетто примыкало кладбище, там то и дело появлялась шустрая бабенка с детской коляской, она, словно молитву на четках, повторяла вполголоса: масло, ст о ит столько-то, сало, ст о ит столько-то, гуси по такой-то цене, куры, цыплята. Евреи несли ей белье, ткань, и продукты без задержки из детской коляски перебирались за колючую проволоку.
Литовцы-спекулянты бессовестно пользовались бедой евреев и цены на черном рынке накручивали от души. Забыв всякий стыд и наплевав на немецкие правила, затирались в рабочие бригады среди узников гетто, зная наверняка, что здесь-то уж сбудут свой товар за отменное вознаграждение! Поймают немцы одного-другого, запрут ненадолго в тюрьму, а им и то не беда: через пару недель выйдет на волю и снова — у проволоки вертится тут как тут, как ни в чем не бывало. А вот еврей пусть попробует только закон преступить — жизнью заплатить может. Евреи, однако, даже в своем отчаянном положении оставались оптимистами и настолько верили в жизнь, что и за колючей проволокой не прекращали сражаться за маленькие свои радости и удовольствия, с завидной изобретательностью изыскивая все новые возможности жизни порадоваться. В первые месяцы в гетто они, правда, еще надеялись, что им не придется привыкать к лишениям так надолго. Но пришлось, и было это тягостно и горько, не теряя себя в новом своем существовании, день и ночь терпеть, выносить, выживать изо всех сил.
Мы уже вторую неделю скрывались у Наташ, а что делать дальше — так и не знали. Каждый день мы появлялись в нашей квартире, непременно заранее созвонившись с хозяйкой и удостоверившись, что все в порядке. Всю неделю собирали посылку к четвергу: пекли белый хлеб, варили мармелад, в деревне доставали яйца и молоко. И всякий раз — тягостное тревожное ожидание и, — ох, слава богу! — ее записка в руке.
Вместе с продуктами передавали еще и белье, и носовые платки и еще всего разного по мелочи: карандаши, настольную игру, шитье, вязание. Но на контроле то и дело что-нибудь считали «излишним» и возвращали обратно. На улицу выходили из дома — тряслись от страха, как бы не схватили, но в тюремном дворе, среди товарищей по несчастью, успокаивались. Здесь, думалось мне, ничего со мной не случится. Вместе с нами молодая женщина приносила передачи своей сестре, сокамернице нашей Мари, и обе наши девочки, мы знали, по-сестрински делят все, что мы им посылаем.
Однажды в дверь квартиры резко позвонили. Мы не открыли, замерли как мышки. Через четверть часа прибежал наш управдом [40] Марийонас Сенкус.
и рассказал, что нас разыскивал полицейский чиновник — вычитал наши имена в домовой книге, расспросил управдома о том, о сем, записал кое-что с его слов и строго-настрого велел нам ничего не рассказывать. Управдом, разумеется, первым делом пришел и запрет нарушил: прячьтесь, говорит, и некоторое время на квартире больше не появляйтесь. И мы снова ускользнули в наше укрытие.
Перед нами лежал проспект Саванориу, далеко, широко. Народ идет спокойный, равнодушный. Оглядываемся с опаской. Никто за нами не следит. Отряды солдат движутся посередине улицы. И поют лязгающими свинцовыми голосами про крошку Урсулу и еще какие-то бессмысленные военные марши. Ни радости в песнях, ни чувства.
Наши милые Наташи заверили нас, что мы можем оставаться у них сколько понадобится. Добрые женщины. Делают вид, что, укрывая нас, ничем не рискуют. К ним пришли люди, не хватало места и сесть было не на что. Мы отдали нашу софу, а сами спали на овечьей шкуре прямо на полу. Гретхен устала, работы в конторе было много, уснула сразу и крепко проспала всю ночь. Я рядом с ней глядела в темноту и все ломала голову, как нам дальше быть. Только бы вызволить Мари, тогда сбежали бы втроем куда-нибудь подальше!
К нам в квартиру никто подозрительный больше не захаживал. Мы вернулись к себе и остались пока. Иногда по вечерам от страха, что вот именно сегодня ночью за нами придут, мы сбегали к Наташам, а те неизменно были нам рады. Людмила по-прежнему лежала больная. Ее обследовали в клинике, и ничем не порадовали. Нужны были лекарства, а на что их купить? Три подруги выносили это тяжкое испытание, свалившееся на их голову в такое суровое время, терпеливо, с достоинством, как люди, сильные духом. Мы между тем, преодолевая трудности чужого языка, успели подружиться и успокоиться благодаря их постоянной помощи и добросердечию. Уходя всякий раз к себе, мы чувствовали, что в любой момент можем вернуться сюда, если будет нужно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: