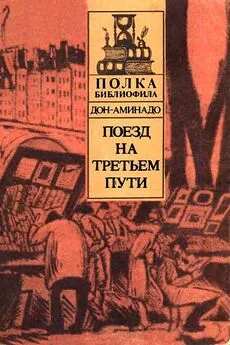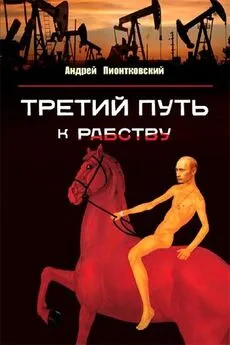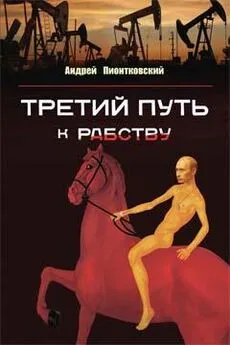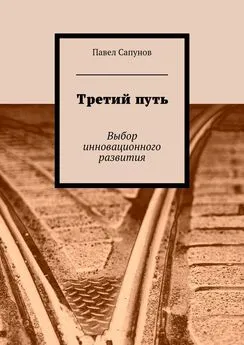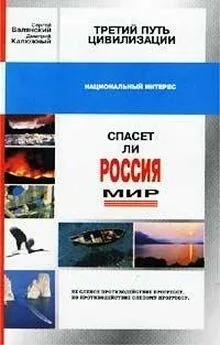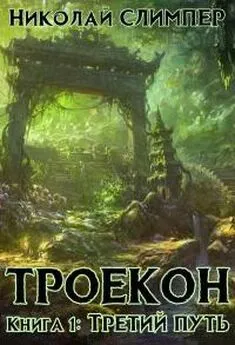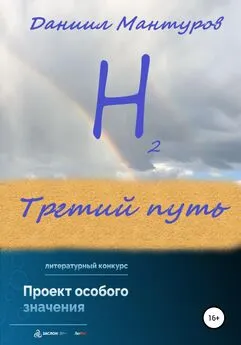Аминад Шполянский - Поезд на третьем пути
- Название:Поезд на третьем пути
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-212-00597-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аминад Шполянский - Поезд на третьем пути краткое содержание
Для широкого круга читателей.
Поезд на третьем пути - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В Малом Театре и чин, и лад.
И лад, и ладан.
Старина, причуды, предания.
Традиции и обычаи; ни раскола, ни своевольства.
В фойе портреты в золотых рамах, а на них вязью написано:
— Рыбаков, Николай Хрисанфович.
— Щепкин, Михаил Семёнович.
— Садовский, Пров Михайлович.
А на сцене, в парче, в бархате, в чепцах с наколками, а то и в ситцевом, иль в кисеях с оборками, живые, настоящие, на пьедестале стоящие, к толпе снисходящие, дородные, благородные — Федотова, Ермолова, Лешковская, Яблочкина.
И в зале тоже не выскочки, не декаденты, не вчерашнего дня люди, а вся первая гильдия, московская и замоскворецкая, именитое купечество и чиновный мир, и уезд и губерния, и лицеист — раковая шейка — в мундирах, при шпагах, и из институтов для благородных девиц розовые барышни во всём крахмальном.
И даже в четвёртом ярусе, и на галлереях, и на боковках, — не жужжат, не галдят, а в четверть голоса разговаривают, друг дружке на ушко шепчут, в кулачок хихикают, непрошеные слезы кружевным комочком, носовым платочком тихо утирают.
А в антрактах военные перед пустой царской ложей на вытяжку стоят, ни за что ни один в кресло не сядет.
Что и говорить. Не ярмарка, не балаган, а храм искусства, прочная постройка, крепость, не крепость, а всё-таки цитадель.
— В Большом были? И в Малом были? А у Незлобина не были? И у Зимина не были? И у Корша тоже? И Сабурова не видали?
Трудно провинциалу на московский размах сразу переключиться.
Не угонишься за всем, не поспеешь.
Вот у Зимина, в театре Солодовникова, в декорациях Сапунова «Чио-Чио-Сан» идёт.
Не опера, а дорогая безделушка, из архивов выкопанная, сам маэстро Пуччини во дни молодости написал.
Рецензенты с ума сходят, одни превозносят, другие язвят, а маэстро афишу пятый месяц держит, и всё аншлаг, аншлаг, аншлаг.
У Незлобина тоже, за пятнадцать дней вперёд все продано. Барышники шкуру дерут, а публика всё равно валом валит.
Для Москвы новинка.
Никто раньше не додумался, а Федор Федорович Коммиссаржевский додумался.
«Принцессу Турандот» Карло Гоцци так приспособил, так по-новому освежил и поставил, таким лёгким дыханием согрел и оживил, что сам Петр Ярцев, самый зловредный из театральных критиков, из Санкт-Петербурга на один вечер, на первое представление приехал, а потом целую неделю из театра не выходил, и всем руки жал — и Коммиссаржевскому, и Рудницкому, и старику Незлобину, а пуще всех принцессе Турандот.
Успех родит успех.
После «Турандот» — «Псиша» Беляева.
Которого почему-то называли Юрочка Беляев.
Хотя было ему сорок лет, и числились за ним и романы, и комедии, и «Сестры Шнейдер», и нашумевшая «Дама из Торжка», и многие другие «брызги пера», острого и неизменно талантливого.
Играла «Псишу» В. Ф. Юренева, когда-то ранившая сердца молодых новороссийских студентов.
А. Р. Кугель писал однажды:
«Отчего таким особым и благородным блеском горят и переливаются обыкновенные подделки, стекляшки, и побрякушки на бутафорском ожерельи актрисы?»
И сам же и пояснял:
«Оттого, что из тысячи устремленных на лицедейку глаз, из глубины расширенных, прищуренных, всепоглощающих зрачков, из всего этого многоокого, напряжённого зрительного зала исходит такое марево, такая ненасытная, жадная и соборная теплота, что поддельные, бутафорские стекляшки вбирают её в себя, и пьют её, и выпивают и, загораясь блеском драгоценных бриллиантов, возвращают этот блеск в тёмный театральный зал и зал его взволнованно принимает, ибо и пьеса, и героиня, и ожерелье на шее — принадлежат ему».
И вновь, задевая воланами полукруглый выступ суфлёрской будки, выходила на вызовы любимица богов и любовь поколения, окружённая венками и розами, оранжерейными розами, уже тронутыми московским снегом, и беспомощно, всегда беспомощно! разводя руками — отдаю вам всё, что имею! — устремляла в рукоплещущее море свой мечтательный, затуманенный увлаженный взгляд.
За Юрием Беляевым следовал Осип Дымов.
«Псишу» сменяла «Ню», петербургская драма, поставленная Мамонтовым в лёгких коричневых вуалях и шелках.
И всё в этой драме было нарочито и стилизовано, и вуали, и интонации, и словесное кружево придушенных, затемнённых реплик и монологов, в которых всё было отвлечённо, анемично, надуманно, лишено жизни и страсти, но для обманутого слуха, в каком-то неожиданном смысле ласкательно и приятно.
В течение скольких еще недель и месяцев, и сезонов, с упоением повторяли потом снобы и эстеты, законодатели преходящих мод, эту загадочную, неживую, вычурную фразу, вложенную в уста томного героя и произносимую нараспев, и с нечеловеческими паузами:
«Я слышу, как проносятся крылья Времени… Время… Die Zeit… Le Temps…»
А между тем Дымов был человек одаренный, талантливый, и в своё время немало обещавший.
Книга рассказов его, «Солнцеворот», несмотря на тот же вычур и погоню за фразой, была встречена, как некоторый залог если и не преувеличенных, то всё же немалых и милых надежд.
Знатоки и профессиональные критики утверждают, что надежды эти не оправдались.
Восторг перед собственной темой, лихорадочный, припадочный подход к задуманному, но еще не осуществлённому, отнимал столько творческих сил, что на самое осуществление, создание, претворение — сил уже не хватало.
Толстой признавался, что писал не из головы, а из сердца.
Но когда писал, то чувствовал сердечный холодок.
Так или иначе, а с отъездом из России литературная карьера Дымова пошла зигзагами, и не по предсказанному ему пути.
Он и сам это чувствовал и понимал.
В 1922-м, 1923-м году, во время частых встреч с ним в Нью-Йорке, казалось, что он ещё как-то бодрился, сам себя убеждал и взвинчивал, уверял, что все эти драмы и мелодрамы, которые шли в это время во второстепенных американских театрах, хотя и с Аллой Назимовой и с Баратовым, что все это так, больше по необходимости, и для денег, а то, что для души, то есть самое важное и главное — всё это еще впереди, и мы еще повоюем, и я им еще докажу! И прочее…
Кому это — им, так и осталось невыясненным.
Потом сразу скисал, мрачно теребил густые, темные, не по-мопассановски подстриженные усы, и, размякнув от нескольких глотков запрещённой, а посему подававшейся в кофейных чашках отвратительной самодельной водки, как бы стесняясь и стыдясь, и с неподдельной грустью в голосе спрашивал:
— А помните в Москве?.. Какой успех имела моя «Ню»!
И сейчас же расплывался в улыбку, услышав подсказанный сочувствием не то ответ, не то реплику:
— Как же не помнить?
«Я слышу, как проносятся крылья Времени… Время… Die Zeit… Le Temps…»
В Каретном ряду еще театр, по тогдашней терминологии тоже передовой, «Свободный театр» Марджанова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: