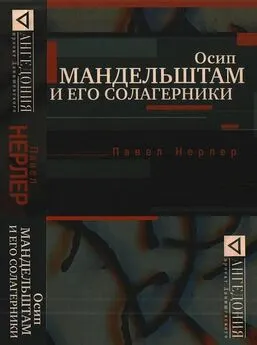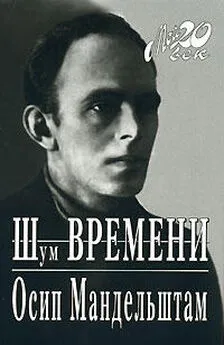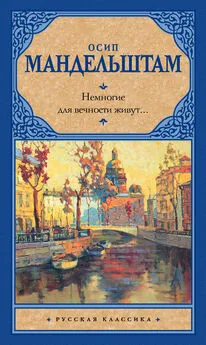Павел Нерлер - Осип Мандельштам и его солагерники
- Название:Осип Мандельштам и его солагерники
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-090599-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Нерлер - Осип Мандельштам и его солагерники краткое содержание
Осип Мандельштам и его солагерники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Казарновский был то, что называется „человек без возраста“.
На вид ему можно было дать и тридцать, и сорок лет…
Он был щуплый, легкий, одетый кое-как, в „рыбий мех“. Все на нем было или ветхое, или с чужого плеча. Всегда улыбающееся лицо с испуганными глазами…
Он подружился с букинистами, подторговывал книгами. Отыскал сборник своих стихотворений, изданный еще до войны. И читал завсегдатаям фанерного павильона возле ташкентского зоосада стихи про волка:
Ах, должно быть, страшно волку
Одному среди волков…
Здесь его хорошо знали. Давали выпить и в долг, когда не было денег, за стихи. Называли его просто Юрочка.
Но он не был пьяница. Он был поэт и умел соблюсти свое достоинство, когда читал стихи.
Но бывали такие обстоятельства, такие унижения…
Зимой комната Надежды Яковлевны промерзала по углам. И тогда она целыми днями не вставала с кровати, укрывшись одеялом и своей прожженной, с обезьяньим мехом и разорванным рукавом черной кожаной курткой. Иногда вода в чашке на столе покрывалась льдом.
Однажды Юрочка, ближе к вечеру, не выдержал и ушел за дровами. Как выяснилось, он разобрал часть какой-то изгороди на улице. И был задержан милиционером.
Юрочка привел милиционера к Надежде Яковлевне и сказал:
— Это моя тетя…
Милиционер поглядел на комнату, на холодную печку, на замерзшее окно и свалил у порога конфискованные дрова.
Надежда Яковлевна смеялась и плакала. А призрак Юрочка неумелыми руками колол дрова и растапливал печку.
В рассказах Казарновского о пересыльной тюрьме были дантовские подробности. <���…> Это и был тот самый ад, о котором сказано: „Оставь надежду всяк сюда входящий…“
Иногда он говорил, как старый каторжанин. Но при этом оставался „жургазовским жуиром“, как называла его Надежда Яковлевна, „коктебельским мальчиком“. Он и сам говорил, что ему лично гораздо больше нравится начало того четверостишия из „Камня“, которое не поместилось на тюремной стене:
Я бродил в игрушечной чаще
И ни шел лазоревый грот,
потому что эти строки переносят его в Крым и напоминают ему тех прелестных нереид, от которых его насильственно оторвали и бросили в грязные бараки, о которых он и вспоминать не желает.
Ему негде было жить. Его пристроили в городскую больницу, где была крыша над головой и хоть какая-то горячая еда. Я посещал его в больнице. Он вызывал острое чувство жалости именно тем, что никогда ни на что не жаловался.
Только очень тосковал. Готов был хоть сейчас идти по шпалам в Москву. Я принес ему рубашку и брюки моего старшего брата, который тогда был в армии.
Юрочка отмылся, отлежался, как-то привык к палате, заигрывал с медицинской сестрой, писал стихи про „распоследнюю любовь“.
Весной он снова появился в фанерном павильоне:
Здесь ты увидишь легко и недлинно
Снова лицо своей первой любви
На заумном хвосте павлина…
Подвыпившие дружки хохотали и хлопали его по плечу» [321].
Свой вклад в экипировку Казарновского внесла и Н. Я. Жил он в Ташкенте
«…без прописки и без хлебных карточек, прятался от милиции, боялся всех и каждого, запойно пил и за отсутствием обуви носил крошечные калошки моей покойной матери. Они пришлись ему впору, потому что у него не было пальцев на ногах. Он отморозил их в лагере и отрубил топором, чтобы не заболеть заражением крови. Когда лагерников гоняли в баню, во влажном воздухе предбанника белье замерзало и стучало, как жесть» [322].
Н. Я. — «тетя Надя»! — три месяца прятала Казарновского от милиции и
«…медленно вылущивала те сведения, которые он донес до Ташкента. Память его превратилась в огромный прокисший блин, в котором реалии и факты каторжного быта спеклись с небылицами, фантазиями, легендами и выдумками. Я уже знала, что такая болезнь памяти — не индивидуальная особенность несчастного Казарновского и что здесь дело не в водке. Таково было свойство почти всех лагерников, которых мне пришлось видеть первыми — для них не существовало дат и течения времени, они не проводили строгих границ между фактами, свидетелями которых они были, и лагерными легендами. Места, названия и течение событий спутывались в памяти этих потрясенных людей в клубок, и распутать его я не могла. Большинство лагерных рассказов, какими они мне представились сначала, — это несвязный перечень ярких минут, когда рассказчик находился на краю гибели и все-таки чудом сохранился в живых. Лагерный быт рассыпался у них на такие вспышки, отпечатавшиеся в памяти в доказательство того, что сохранить жизнь было невозможно, но воля человека к жизни такова, что ее умудрялись сохранять. И в ужасе я говорила себе, что мы войдем в будущее без людей, которые смогут засвидетельствовать, что было прошлое. И снаружи, и за колючей оградой все мы потеряли память.
Но оказалось, что существовали люди, с самого начала поставившие себе задачей не просто сохранить жизнь, но стать свидетелями. Это — беспощадные хранители истины, растворившиеся в массе каторжан, но только до поры до времени. Там, на каторге, их, кажется, сохранилось больше, чем на большой земле, где слишком многие поддались искушению примириться с жизнью и спокойно дожить свои годы. Разумеется, таких людей с ясной головой не так уж много, но то, что они уцелели, является лучшим доказательством, что последняя победа всегда принадлежит добру, а не злу» [323].
Конечно, под «беспощадными хранителями истины» Н. Я. имеет в виду прежде всего таких, как Шаламов или Солженицын. Но в поисках свидетельств о Мандельштаме ей или ее помощникам чаще всего встречались свидетели другого типа — те, кого еще можно было как-то разговорить, но кто ни за что сам за перо не взялся бы (лучшие того образчики — Константин Хитров и Юрий Моисеенко).
Казарновский, бесспорно, в число и таких очевидцев не входил, но как бы то ни было, именно он стал первым вестником с того света [324], и его бессвязные рассказы стали, бесспорно, центральными для той картины, которую Н. Я. со временем нарисует (а точнее — выложит, как мозаику) в «Дате смерти».
«В „пересылке“ они жили вместе, и как будто Казарновский чем-то даже помог О. М. Нары они занимали в одном бараке, почти рядом [325]…<���…> Состав пересыльных лагерей всегда текучий, но вначале барак, куда они попали, был заселен интеллигентами из Москвы и Ленинграда — пятьдесят восьмой статьей. Это очень облегчало жизнь. <���…> О. М. всегда отличался нервной подвижностью, и всякое волнение у него выражалось в беготне из угла в угол. Здесь, в пересыльном лагере, эти метания и эта моторная возбудимость служили поводом для вечных нападок на него со стороны всяческого начальства. А во дворе он часто подбегал к запрещенным зонам — к ограде и охраняемым участкам, и стража с криками, проклятиями и матом отгоняла его прочь. Рассказ о том, что его избили уголовники, не подтвердился никем из десяти свидетелей. Похоже, что это легенда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: