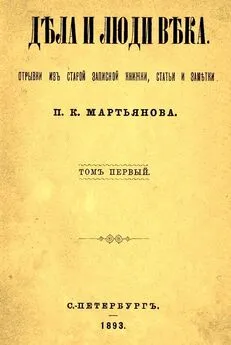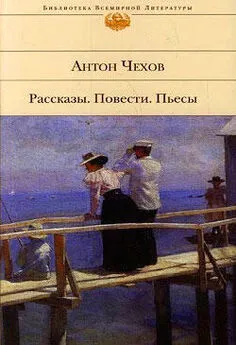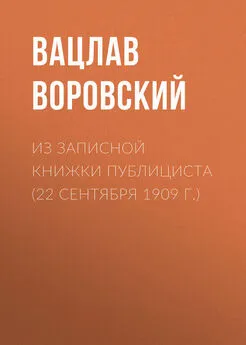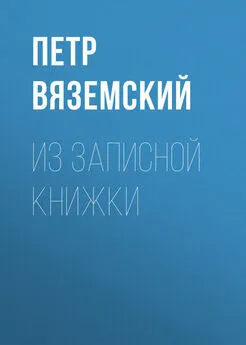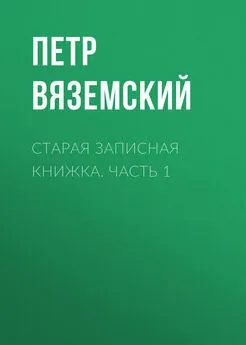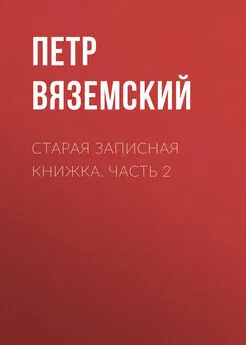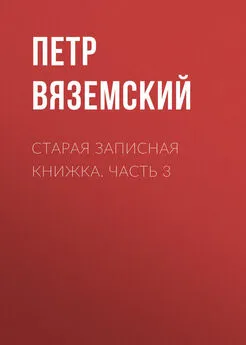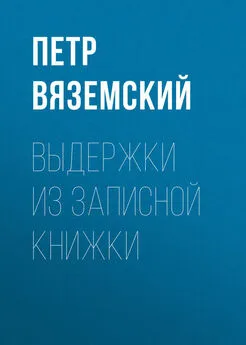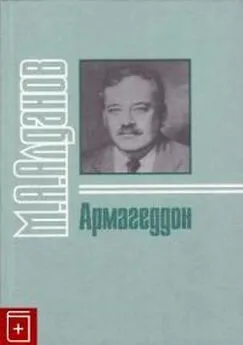Петр Мартьянов - Дела и люди века: Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. Том 1
- Название:Дела и люди века: Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография Р. Р. Голике
- Год:1893
- Город:С.-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Мартьянов - Дела и люди века: Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. Том 1 краткое содержание
Издание 1893 года, текст приведён к современной орфографии.
Дела и люди века: Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот это то печальное событие, как рассказывал мне один из товарищей М. Ю. Лермонтова, некто И. И. Парамонов, и натолкнуло поэта на мысль написать песню о купце Калашникове, которой конечно дана более блестящая по содержанию форма.
Обер-полицмейстер Цынский
В царствование императора Николая, общий срок военной службы был 25-ти летний. Рекрутские наборы производились при особых, весьма тягостных для населения условиях. Назначались в рекруты люди от 20 до 35 лет, а при неимении метрических свидетельств, шли иногда старики 40–45 лет и более. Принимаемым брили лбы, а бракуемым — затылки. Людей, назначаемых в солдаты, привозили из деревень под присмотром бурмистров, управляющих и старост, связанными, а подчас и в кандалах. После приема их отправляли под конвоем с ружьями. При таких порядках, понятно, с какими чувствами народ шел отбывать эту тяжкую для него повинность. Исполнение её сопровождаюсь возмутительными сценами. Тут было всё: и повальное, беспробудное пьянство назначенных на очередь, и плач, рев, вой, обмороки и причитанья, как бы по мертвеце, их жен, сестер и матерей, и безумная, бесшабашная радость тех немногих, кто по какому-либо счастливому случаю, избавлялся от рекрутчины.
Я помню эти наборы. В начале сороковых годов, мне часто приходилось видеть в Москве эти печальные жертвоприношения народом детей своих на алтарь отечества. Особенно врезался в мою память следующий трагикомический эпизод.
Прием производился еще в здании присутственных мест на Воскресенской площади. Очередных вводили в прием по волостям или вотчинам. Семьи их, родичи и друзья, а также городские зеваки, составляли народные массы вокруг здания присутственных мест. Изредка с крыльца приема сбегал вестник и вещал: «такой-то и такой-то забриты, такой-то забракован». Вопли и стоны усиливались. Толпа колыхалась и выбрасывала из себя два-три семейства сданных в рекруты: они уходили оплакивать свое горе туда, где над ними никто не посмеется. Порой с крыльца сбегал забракованный с громадным выбритым на затылке полумесяцем и начинал или креститься по направлениям к соборам, или плясать среди толпы.
Но вот однажды сбегает с крыльца присутствия, расталкивая стражу и толпу, неизвестно как ускользнувший из приема молодой парень с забритым затылком, в костюме прародителя, волоча правой рукой по снегу пестрядинную свою рубаху. Толпа загоготала и расступилась, дав ему дорогу. Парень вероятно желал пробраться к Иверской, забывая, что он совершенно голый, ринулся на площадь и понесся прямо, что есть мочи.
В это мгновение выезжал из-за угла, мчавшийся на своих «непобедимых» с тремя конвойными казаками, обер-полицмейстер Цынский, не человек, а зверь, про которого ходила в народе поговорка: «украл у батюшки свитку, у матушки свинку». [2] Намек на недостойность его быть в царской свите и на какие-то денежные захваты.
— Это что за безобразие? — раздался зычный голос начальника полиции — казак, взять его!
Казак бросился за парнем, парень от него, казак пришпорил лошадь и стал настигать нагиша. Казалось, вот, вот он его сейчас схватит; но парень не захотел поддаться, бросился наземь, и казак, перескочив чрез него, пролетел далеко вперед. Парень же между тем вскочил и ударился бежать назад. Толпа ринулась навстречу и заслонила его: кто набросил на него тулуп, кто дал валенки, кто надел шапку, и парень успел скрыться.
Цынский рвал и метал, но с толпой ничего сделать не мог и уехал. На утро собрали к нему всех волостных и вотчинных сдатчиков, проверили забракованных и парня отыскали. Судопроизводство в то время было упрощенное: парня отправили в частный дом и там отстегали, но отстегали должно быть неосторожно, так что бедняка пришлось отправить в больницу, где он полежал, полежал и помер.
А. П. Ермолов, узнав об этом, сказал: «ну, проведают в Петербурге, сошлют бедного Цынского на Кавказ, на место Нейдгардта».
Как Мина попала в фавор
В «Хронике петербургских театров» А. И. Вольфа, мне пришлось, между прочим, прочитать, что «в Петербурге, при директоре театров А. М. Гедеонове, имела громадное влияние на театральный мир Мина Ивановна Б., занимавшая неофициальный, но весьма важный пост театральной помпадурши. От неё зависели главные назначения и ангажирования артистов, она вмешивалась и в хозяйственную часть: ни один подрядчик, ни один поставщик не допускался без её предварительного одобрения. Зато квартира этой чухонской Аспазии и вообще вся её обстановка отличались необыкновенною роскошью. В её салонах толпились не только артисты, но и все лица, имевшие дело до её патрона», и т. д.
Эта «чухонская Аспазия» была действительно всемогущая в свое время фаворитка министра двора и друга императора Николая, покойного графа В. Ф. Адлерберга. Влияние её не ограничивалось одним театральным мирком, многое от неё зависело и вообще по министерству двора. Знаменитый остряк, князь А. С. Меншиков, сказал однажды: «люблю я графа Адлерберга, но мне его мина не нравится».
Деятельность фаворитки многим в Петербурге известна и до сих пор памятна. Но многие ли знали её прошлое и случай её повышения?
Вот что рассказывал мне о ней М. С. Морголи, бывший откупщик, человек, обладавший в свое время большим состоянием и любивший пожить. Он знал Мину еще «бедною».
В начале тридцатых годов, проживали в Москве две сестры, немки, дочери петербургского ремесленника, Юлия и Вильгельмина Ивановны Гут. Жили, конечно, и ничего не имели. Ну, а как рыба ищет где глубже, а человек где лучше, то они и задумали отправиться за счастьем в Петербург. Это было в 1834 году. Железных дорог тогда еще не существовало, а для сообщения обеих наших столиц предлагали свои услуги почты, казенные или вольные, и знаменитые частные дилижансы. Проезжая из Малороссии по делам в Петербург, Михаил Степанович заблагорассудил отправиться из Москвы в частном дилижансе, и вот тут то он имел случай познакомиться с девицами Гут, отправившимися «за счастьем» в Петербург. Само собою, дорога оказалась приятною (дело было летом). Продолжительные остановки на станциях, прогулки в окрестных лесах и рощах скрепили знакомство, которое по приезде в Петербург перешло в дружбу.
Девицы Гут поселились на углу Большой Подьяческой и канала в д. Мейера, в небольшой квартирке третьего этажа. Наружностью они особенно не выделялись, но вообще при первой встрече производили приятное впечатление. Обе сестры были блондинки. Старшая, Юлия, имела 23–24 года, рост средний, лицо полное, немного рябоватое, отличалась чрезвычайно живым и веселым характером. Младшей, Вильгельмине, было не более 17–18 лет, её маленькое, выразительное личико, молчаливость и мечтательность невольно как-то располагали к ней всякого. Жили они бедно, так как никаких определенных средств не было. Одевались скромно, но прилично, квартирку содержали чисто. Михаил Степанович посещал их около года и вносил в семью некоторый достаток, но он в 1835 году отправился в Малороссию и покровителем девиц Гут остался товарищ его, Абрам Григорьевич Юровский, богатый малороссийский помещик, содержавший в то время на откупу несколько уездов в Малороссии. Он был уже не молод, лет 50-ти, роста среднего, худощавый, с громадной лысиной на голове. Особенно отличался он тем, что имел глаза не одинакового цвета: один серый, другой голубой. Покровительство его повело к тому, что сестры разъехались. Юлия осталась в Подьяческой, а Вильгельмина переехала на Пески.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: