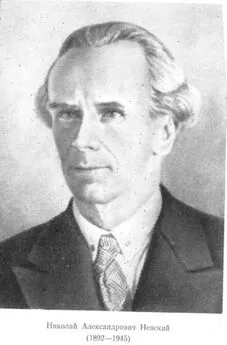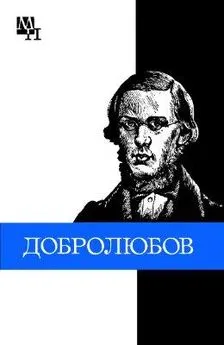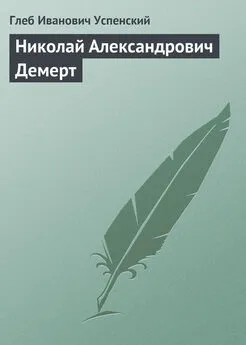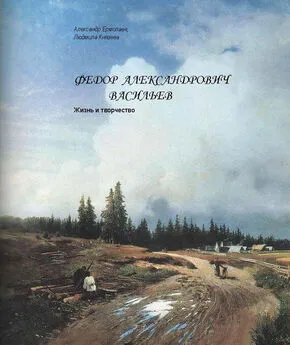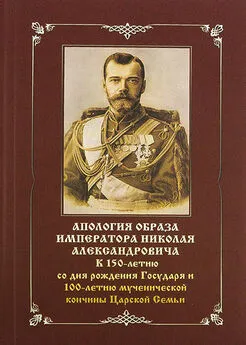Валентин Бажанов - Николай Александрович Васильев (1880—1940)
- Название:Николай Александрович Васильев (1880—1940)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-02-005953-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Бажанов - Николай Александрович Васильев (1880—1940) краткое содержание
Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.
Николай Александрович Васильев (1880—1940) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Остроумной критике подверг закон противоречия и выдающийся польский логик Я. Лукасевич. В 1910 г. вышла в свет его книга и статья, посвященные анализу закона противоречия у Аристотеля. Лукасевич утверждал, что закон противоречия не может считаться доказанным из-за его якобы прямой очевидности, так как очевидность не является достаточным критерием истинности, «да и не рассматривался этот закон как самоочевидный в истории науки; сомнительно, чтобы можно было доказать статус закона противоречия как естественного закона, детерминированного нашей физической организацией, доказать через определение утверждения или отрицания, а также через определение ложности суждений» (цит. по: [100, с. 7—8]). Глубоко и метко критикуя закон противоречия, Я. Лукасевич, очевидно, не предпринимал в период выхода указанных публикаций попыток построить логику, свободную от закона противоречия. Свою критику он не подкреплял логической конструкцией, даже в какой-то мере замещавшей ту, к которой предъявлялись претензии или которая исходила бы из альтернативных критикуемым принципов. Закон исключенного третьего вообще в 1910 г. оставался вне границ его критики. Только в 1920 г. Я. Лукасевич предложил трехвалентную логику, оперирующую тремя значениями истинности и в этом плане идущую дальше логики Аристотеля.
Во-вторых, дедуктивному методу аристотелевой логики противопоставлялся индуктивный метод в работах Ф. Бэкона и Дж. Милля. Классическое учение о модальности суждений развивалось X. Зигвартом и Дж. Венном. Однако самый мощный натиск традиционная формальная логика испытывала со стороны процесса математизации логики, создания математической логики (подробнее см.: [73; 92]). Осуществляя перевод логики на рельсы математических методов и, в частности, проводя алгебраизацию логики, ученые реконструировали древнюю науку в плане придания ей строгости, точности, универсальности, т. е. ключевых достоинств, которые являются отличительными для математики. Тем самым логика качественно обновилась, можно даже сказать — родилась второй раз, приняв новую форму. Процесс математизации науки не случайно начался с логики, ибо логика — самый близкий сосед математики в здании науки.
Возникновение неаристотелевой логики подготавливалось всеми обозначенными выше направлениями, но прежде всего это происходило в рамках математической логики. Собственно, сам термин «неаристотелева логика», по-видимому, обрел жизнь-в связи с изысканиями в русле развития идей математической логики.
Представление о неаристотелевой логике в начале XX в. было самым общим, заключающим в себе указание лишь на абстрактную возможность ее создания. Типичны следующие рассуждения о перспективах открытия неаристотелевой логики из работы П. Каруса «Природа логической и математической мысли» [101], хорошо известной Н. А. Васильеву.
«Аристотелева логика неполна и неэффективна, поскольку описывает самые простые отношения и не распространяется на более сложные формы мысли, хотя в ней доселе и не найдены какие-либо ошибки», — этими словами П. Кар ус выражал отношение научного сообщества на рубеже XIX—XX вв. к традиционной формальной логике [101, с. 44]. Если постулировано, что человек смертен и Кай — человек, то с необходимостью следует заключение, что Кай смертен. В противном случае это уже не человек, а бессмертное существо, что нарушает закон противоречия. Между тем можно вообразить сказочный мир, который в своей основе закономерен, и в нем не нарушается правило (закон) противоречия. Чисто формальные правила аристотелевой логики также сохраняются. Мельница, так сказать, прежняя, а зерно, поступающее на жернова, новое. Если существует геометрия искривленного пространства, то почему не должна существовать и своего рода «искривленная» логика (curved logic)? Создание такой логики безусловно явится исключительным научным открытием, на которое еще не получен патент. «Какая заманчивая возможность разделить судьбу Римана в области логики!» — восклицал ученый [101, с. 45].
П. Кару с приводит письма видного логика и философа, предшественника прагматизма Ч. Пирса, касающиеся этого жгучего вопроса. Прежде чем приступить к изучению алгебры отношений, как явствует из одного письма, Пирс «немного исследовал» следствия гипотезы о том, что законы логики могут быть отличными от тех, которые были известны к концу XIX в. (К сожалению, Пирс не уточняет конкретных деталей, в данном случае весьма важных.) Принятие такой гипотезы, по его мнению, дает вид неаристотелевой логики. Некоторые аспекты этого исследования и показались Пирсу «занятными», но он не счел их достаточно существенными для публикации, тем более что общая идея, не сомневался Пирс, очевидна всякому, кто признает, что логика исходит из некоторых «позитивных фактов» и представляет собой чистый формализм. Пирс категорически возражает тому отряду ученых, которые заведомо рассматривали неаристотелеву логику как ложную, как «безумие», вместо того чтобы оценить эту — вполне естественную — гипотезу как достойную изучения независимо от ее истинности.
В другом письме Пирс пытается пояснить, что он вовсе не исключает продолжение некогда начатых исследований по неаристотелевой логике, по меньшей мере способных привлечь внимание к тем особенностям логики, которые, возможно, до сих пор находятся вне поля зрения. «Однако в свое время я пришел к выводу, что эта линия исследований пока не важна», — замечает Пирс [101, с. 158]. Из этого письма легко установить, что построение неаристотелевой логики связывалось Пирсом с модификацией закона транзитивности.
П. Карус не соглашается с такой постановкой вопроса, подчеркивает, что Пирс понимает под аристотелевой (и неаристотелевой) логикой нечто отличное от того, что понимается под ними обычно. Кроме того, транзитивность не является правилом аристотелевой логики и никак не может считаться ее центральным положением. Поэтому в контексте размышлений П. Каруса модификация (или даже отказ от) закона транзитивности не может стать отправным пунктом разработки неаристотелевой логики. Путь к неаристотелевой логике только еще предстоит проложить. «Мир стал свидетелем многих открытий, — подытоживал П. Карус. — По телефону можно разговаривать на неограниченных расстояниях, наши современники летают по воздуху подобно птицам (нелишне напомнить, что публикация Статьи Каруса состоялась в 1910 г. — В. Б.). Открытие радия поколебало законы физики, но открытие неаристотелевой логики превзойдет все эти достижения. . .» [101, с. 46].
Несмотря на то что по вполне понятным причинам представление о неаристотелевой логике было на рубеже XIX—XX вв. сутным, а ожидание, связывающееся с ее построением, — многообещающим, атмосфера в науке в общем-то, казалось, была подготовлена для ее восприятия. Тем не менее появление осевых идей неаристотелевой логики и путь к признанию их научного статуса оказались сложнее, противоречивее, чем все это рисовалось в сознании тех, кого привлекали горизонты новой логики и кто, приближая ее создание, пытался заглянуть в будущее, — тех ученых, чьи имена вписаны в ее предысторию. Реальная история неаристотелевой логики начинает свой отсчет с 18 мая 1910 г., когда в своей пробной лекции в Казанском университете Николай Александрович Васильев дал сжатое изложение своей оригинальной концепции неаристотелевой логики. До этого момента реформа традиционной формальной логики не носила, так сказать, радикального характера, поскольку, по сути дела, сводилась к усовершенствованию «старой» логики. Н. А. Васильев «не хотел ограничиться некоторыми усовершенствованиями старой логики, а пытался посмотреть, не возможна ли новая, совершенно иная логика, с иным предметом и иным логическим миром. . . Уже сама постановка этого вопроса Н. А. Васильевым заслуживает внимания любого исследователя русской логической мысли», — писал П. В. Копнин [65, с. 405].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: