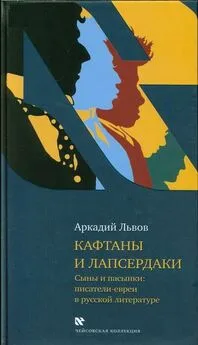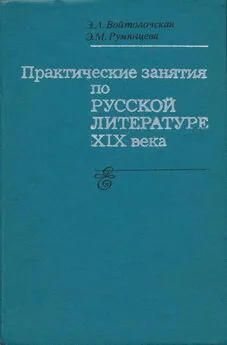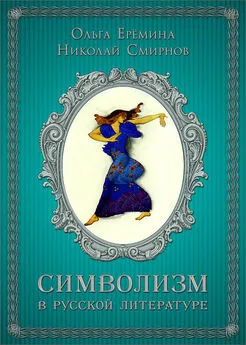Аркадий Львов - Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе
- Название:Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжники
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9953-0361-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Львов - Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе краткое содержание
Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Увы, жид жида, как видим, держится не всегда и не без разбору. Более того, можно привести тысячи примеров, когда не было еврею большего врага, чем другой еврей, и не было еврею большего зла, чем от другого еврея.
Но что из этого? Разве хоть сколько-нибудь снимается этим факт, что при прочих равных обстоятельствах еврей действительно более влечется к еврею, точно также, как русский к русскому, армянин к армянину, немец к немцу? Разве не говорил великий космополит Томас Манн, что евреи-однокашники и евреи-издатели бывали ему даже ближе и больше друзья, чем немцы? Разве не приравнивал Антон Павлович Чехов — отнюдь не юдофил — одного еврея Исаака Левитана, по ценности, к трем русским?
Надо быть слепцом или абсолютным ханжой, чтобы в самом этот паритете, которого держались признанные гуманисты, не усмотреть действия племенного магнита, не учуять родовых биотоков, которые то с тиранической силой, то с легкостью зефира обуревают или обвевают наши души.
Не так элементарно, не столь очевидно, как в неживой материи, но существует, бесспорно, национальная валентность, которая определяет психическое сродство «элементов» данной группы.
А теперь вернемся к Осипу Мандельштаму, который в молодости и даже позднее, в зрелые годы, буйно, как это умеют евреи, отряхался от иудейских своих валентностей, кои сами иудеи именуют проще: еврейские штучки-дрючки. Для него, для Оси, самой фатальной, самой роковой изо всех этих штучек-дрючек оказалась одна: полная неспособность приладиться к диктаторскому, к палаческому режиму товарища Сталина.
Кто только не набивался Осе в учителя, в наставники! И поносили, и порицали, и журили его за то, что не сыскал в себе сил притереться ко времени, как притирались тысячи других, не мог сам заработать на кусок хлеба и докатился до того, что в буквальном смысле слова стал побирухой, нищим! Как же так: где прославленный — точнее, ославленный — еврейский талант просунуть хвост, где голова не лезет, где вековое умение угодить, найти себе хозяина, покровителя, мецената, вокруг которого еврей мог бы крутиться с пользой для обоих: и для него, и для себя!
Постойте: а может, дело вовсе не в полной, поразительной для еврея, Осиной бездарности по части приспособления и угодливости, которую этнографы именуют сервилизмом, может, над ним, над императивом сервилизма стоял другой — императив иудейской гордыни?
Но как же сказать, что всему виной он, императив гордыни, если Ося и сам, и через жену свою Надю все свои советские годы, то есть чуть не полжизни, искал себе благодетелей, которые, пусть летами были ему ровней или годились даже в младшие братья, выступали бы для Оси на ролях отцов: и армянские наркомы, и Николай Иванович Бухарин, и секретарь ВЦИК Авель Енукидзе, и сталинский опричник, глава ЦКК М. Шкирятов — не от Малюты ли Скуратова? — и поэт Демьян Бедный, и литературный начальник Александр Воронский, и одесский умелец Валя Катаев, и эстет Ромен Роллан, которому была женой княгиня Майя Кудашева, некогда знавшаяся с Осей. Ах, вздыхал в своей воронежской ссылке Ося, когда в СССР приехал погостить Ромен Роллан: «Майя бегает по Москве. Наверное, ей рассказали про меня. Что ему стоит поговорить со Сталиным, чтобы он меня отпустил…»
Боже мой, да разве же это слова мужа — это же причитания, грезы мальчика, который всю жизнь рос без папы!
Надежда Мандельштам писала в «Воспоминаниях»: «Всеми просветами в своей жизни О. М. обязан Бухарину». И книга стихов двадцать восьмого года вышла благодаря ему, Бухарину, и Кирову. Конечно, Осип Мандельштам среди писателей-поэтов был не один такой: все искали покровителей, все, как выражалась жена Ежова, «к кому-нибудь ходят». К самим Ежовым ходили, например, Бабель, Пильняк. Это ноне, из далека в полсотни лет, кажется зазорным, загадочным, как можно было ходить в гости к Николай Иванычу Ежову. А о те года была в этом немалая честь. Не только честь, но и гарантия и, говоря по-теперешнему, приличный навар.
К товарищу Сталину мог ходить только один: Максим Горький. Но стоило товарищу Сталину звякнуть по телефону Борису Леонидовичу Пастернаку, как тут же разнеслось по всем градам и весям: Сталин звонил Пастернаку! И по сей день, почитай, уже более полвека, тренькает этот телефон в историях русской литературы.
Каким Августам, каким Вергилиям, Овидиям, каким Людовикам, Мольерам снилось такое!
Но в том-то и дело, что можно ходить и ходить: один — чего-нибудь да выходит, а другой — с чем пришел, с тем и уйдет. И хорошо еще коли так, без новых цорес.
Осип как раз был этим другим: сначала, в первые годы советской власти, еще бывало чего-нибудь унесет в сидоре своем — то путевочку в санаторий, то командировку к гипербореям, а позднее ничего уже, кроме свежих цорес, в сидоре его и не водилось.
Выше было про Осю сказано: цадик. Так что, был он цадик или не был? Да, был. Но разве у цадика не случаются минуты слабости, тем более у цадика-поэта? Назовите хоть одного поэта — я сразу сдаюсь: не знаю — с тех пор, как люди стали сочинять стихи, у которого не случались бы такие минуты слабости!
Разве это кто-нибудь другой, разве не сам про себя сочинил Ося:
У нашей святой молодежи
Хорошие песни в крови:
На баюшки-баю похожи,
И баю борьбу объяви.
И я за собой примечаю
И что-то такое пою:
Колхозного бая качаю,
Кулацкого пая пою.
А это, хоть посвящено памяти Андрея Белого, разве не про себя писал Ося:
Меж тобой и страной ледяная рождается связь —
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.
Бесконечно прямиться — это возможно только в идеале. Бесконечно прямиться — это никому не дано при жизни. Но коли хочешь жить — «Я должен жить, хотя я дважды умер», — учись прямиться, готовь себя к последней прямизне, которая, пока ты еще здесь, на этом свете, дана с полнотой лишь в программе партии, в генеральной линии ВКП(б).
И цадик Осип наказывал себе «с последней прямотой»:
Я должен жить, дыша и большевея…
Что нельзя жить не дыша, это известно каждому. И вот так же, как необходимо для жизни дышать, так же необходимо — большеветь.
Что-то такое непонятное — какой-то «проклятый шов, нелепая затея» — наложилось о былые дни на Осину жизнь. Но, хотя мальцом еще Ося забросил Моисееву рвань под диван, разве не усвоил он мудрость праотцов: что дана человеку свободная воля и от него самого, от человека, зависит, как распорядиться этой волей.
И Ося в благословенные майские-июньские дни тридцать пятого года, в воронежской ссылке — у всякого поэта болдинская пора по-своему, — сочинил «Стансы», где сам объяснил себе, в чем должна состоять его свободная воля:
Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу, и люди хороши.
Интервал:
Закладка: