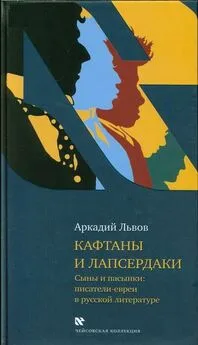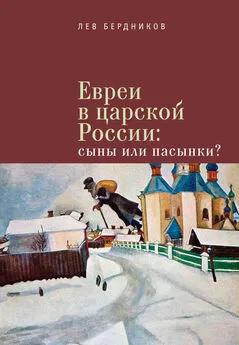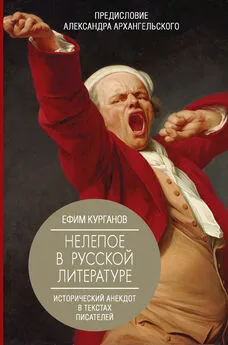Аркадий Львов - Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе
- Название:Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжники
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9953-0361-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Львов - Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе краткое содержание
Кафтаны и лапсердаки. Сыны и пасынки: писатели-евреи в русской литературе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нету, таково последнее суждение писателя Пастернака, приступившего к сочинению романа «Доктор Живаго» — главной книги всей его жизни, — нету в последние полторы тысячи лет, после падения Римской империи, никаких народов и нету никакой возможности строить культуру на их сырой национальной сущности.
В 1959 году писатель объяснял Жаклине де Пруаяр, что «Доктор Живаго», при всем его недюжинном философском заряде, однако «произведение реалистическое по замыслу, по исполнению и по заданию». Задачей романа было «описать определенную действительность известного периода — то есть русскую действительность последних пятидесяти лет…»
Стало быть, писать пришлось все-таки национальную историю России с ее национальной культурой и, как у всех народов после падения Римской империи, «сырой национальной сущностью».
А теперь еще один вопрос: что представляла собою религиозная сердцевина этой «сырой национальной сущности» по имени Россия?
Естественно, православие: какая же еще вера в России могла быть сопоставлена, по своей значимости, с православной верой. И хоть еврей по крови, но крещенный в православную веру, писатель Пастернак, воспроизводивший в своем романе российскую действительность за полстолетия, с начала двадцатого века до его середины, само собою, должен был писать ее православной кистью.
И тут-то схватим сами себя за руку: что значит должен? кому должен? чему должен? Разве он, писатель Пастернак, даже примерясь писать подлинную в подлинное время историческую Россию, на переломе — через Декабрь, Февраль и Октябрь — от романовской империи к империи ленинской-сталинской, в долгу перед кем-то или чем-то?
Нету, нету у него никакого долга ни перед чем, ни перед кем, кроме как перед самим собою — продуктом христианской эры.
В сорок шестом году, приступая к роману, он уведомлял сестру Ольгу: «Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным».
Тринадцать лет спустя, когда «Доктор Живаго» гремел уже на весь мир, задним числом, в письме к Жаклине де Пруаяр, он растолковывал, что задачей его было описать, «действительность как таковую, самое действительность как явление или категорию философии — действительность в себе».
Как видим, марбургские бдения не прошли для него всуе: не сама по себе действительность, живая жизнь, где иудейская натура, иудейская судьбина с интимной его полутайной были постылой реальностью, а действительность как «категория философии», «действительность в себе» — вот главная для него ценность.
Но думаете, так это просто: разом обладать двумя этими действительностями, которые в божественной своей сущности хоть и едины, но нам, человекам, даны розно — как живая жизнь, с одной стороны, и как философская категория, или «действительность в себе», с другой стороны.
В постоянной погоне за этими двумя действительностями, ловчась ухватить то одну, то другую за что придется — за хвост, за голову, за шиворот, — конструировал поэт по частям, по главам, по абзацам, слово за словом, своего доктора Живаго, с которым за долгие годы сжился так, сросся до такой плотности, что и сам уже отличить не мог, где же, собственно, доктор Живаго, у которого и стихи были общие, в соавторстве с ним, с поэтом Пастернаком, и где же сам он, поэт Пастернак, который под своим именем, еще до выхода Живаго на люди, опубликовал эти стихи в московском журнале «Знамя»:
Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.
Растворяясь один в другом, трансформируясь один в другого, каждый из них, Живаго и Пастернак, уже не различали, не отличали своего от несвоего, ибо использовали один другого с единственной целью — выразить себя. И так сложилось, не как у сиамских даже близнецов, ибо те спинами срослись, а эти срослись сердцами, так что общей кровью питалась каждая клетка одного и другого, что на все дела мира — на жизнь, на смерть, на любовь, на Бога, на безбожье, на евреев, на неевреев — были у них не то что близкие или общие взгляды, а был единственный взгляд: что думал и говорил Живаго, то думал и говорил Пастернак. И наоборот.
Про себя, про двоих, оба написали и общий стих, программный, дав ему имя Гамлета, уподобленного Сыну:
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
……………………
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути,
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.
Еврей и русский, но оба крещенные в православную веру, Пастернак и Живаго обменивались родовыми своими чертами — родовыми чертами, как понимал, как признавал их один из них, поэт Борис Пастернак, ибо другой, поэт Юрий Живаго, существовал то как протагонист, то как альтернатива, то прямо как альтер эго первого.
В сорок шестом году, встретясь с Гладковым в московском метро, Борис Леонидыч поведал молодому другу, что «собирается… писать большую статью о Блоке». Те же думы, чуть не в те же дни, одолевали Юру Живаго («Елка у Свентицких»), и «вдруг Юра подумал, что Блок это явление Рождества во всех областях русской жизни, в северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг зажженной елки в гостиной нынешнего века. Он подумал, что никакой статьи о Блоке не надо, а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом».
И что же? А то, что стоило Юре Живаго только помыслить о том, что статьи не надо, а «просто надо написать стихи», как Борис Пастернак тут же сочинил «Рождественскую звезду»:
Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.
Рождественская звезда «…пламенела, как стог, в стороне / От неба и Бога, как отблеск поджога, / Как хутор в огне и пожар на гумне. / Она возвышалась горящей скирдой / Соломы и сена / Средь целой вселенной…»
Это ли Святая Земля? Это ее пейзаж? «Стояла зима. Дул ветер из степи». Да кто же эту морозную ночь с навьюженной снежной грядой, с пламенеющим стогом, с хутором в огне, с горящей скирдой соломы, с пожаром на гумне примет за Вифлеемский край!
Если это Вифлеемская земля, тогда вся Россия — притом Россия в огне, в пламени революции — один сплошной Вифлеем.
Так видел Русь Пастернак, и соответственно так видел Живаго — видел не христианскую, не православную, видел языческую Русь с волхвами, с морозом, с волками, темным еловым лесом и хуторами в огне. Видел — в ее «сырой национальной сущности».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: