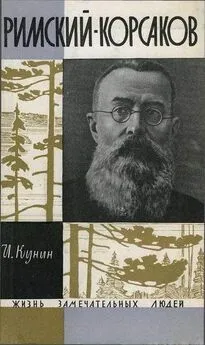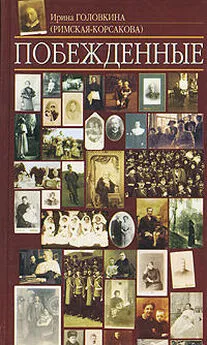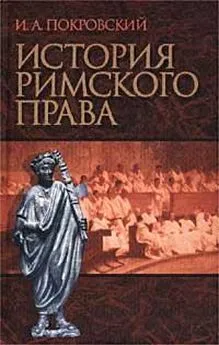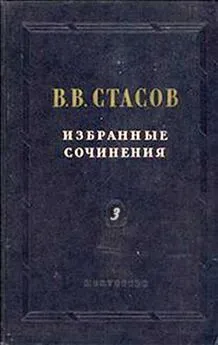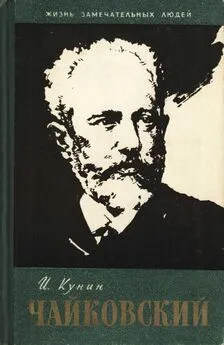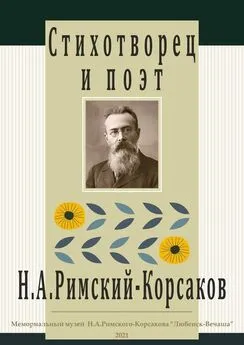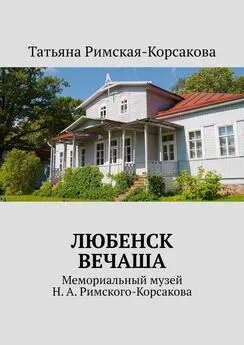Иосиф Кунин - Римския-Корсаков
- Название:Римския-Корсаков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1964
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Кунин - Римския-Корсаков краткое содержание
Трудный путь прошел он при жизни, знал годы дружбы, недолгие годы славы и годы горького одиночества. Преувеличенные хвалы претили ему бесконечно.
Музыка Римского-Корсакова живет, и живет ее действующее, активное начало. Обильные всходы посеянных им семян зеленеют на родной почве и далеко за рубежами.
Римский-Корсаков у нас чтим и уважаем. Его именем названа консерватория, в которой он без малого тридцать семь лет воспитывал музыкантов. Его оперы не сходят со сцены, а если сходят, то не на очень долго.
Душевный облик человека, именем которого названа книга, чаще всего заслонен для нас его музыкой. Мы забываем слова поэта:
Мукой и великой радостью. Трудом и подвигом. Делом всей жизни.
Ближе подойти к этим мукам и радостям, прикоснуться в меру сил к душевному миру художника — такова задача нашего общего с читателем труда. И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.
Римския-Корсаков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Да отчего же и не попробовать? Мы с Чайковским раз пробовали, да ведь там совсем другая задача была. Откровенно скажу: в опере музыка сама себе барыня, а в драматическом спектакле — служанка. Мы тогда самое Снегурочку вовсе без музыки вывели, благо она по пьесе не поет, не пляшет. А вам, верно, тут колоратуры понадобятся?
— Возможно, Александр Николаевич, и понадобятся. Не зарекаюсь.
— Вот видите — колоратуры! Не потерять бы ей лицо… Мне, если уж на то пошло, о многом тогда думалось. Хотелось нашим берендеям не чужаков, а их самих на сцене показать и, главное, не в затрапезный, а в светлый, так сказать, воскресный час их бытия. Более того. Царь Берендей говорит — чай, читали?
В сердцах людей заметил я остуду.
Исчезло в них служенье красоте,
А видятся совсем иные страсти.
И Бермята ему в ответ:
Я горю пособить не вижу средств.
Шалишь, думаю, боярин. Есть средства: театр-то на что?! Ан вышло, что Бермята свое дело знал. Не прижилась «Снегурочка» на сцене. А впрочем — что ж! Не подумайте, что отговариваю. Музыка имеет в себе великую силу. Первый рад буду вашей удаче.
С этим благословением и поехал Корсаков в Стелёво. Уже в те годы его композиторская работа чаще всего приходилась на летние месяцы. Осенью и зимой возникали замыслы, накапливались наброски или же, наоборот, шла инструментовка уже написанного, доработка его, изготовление клавира. Появление первых зеленых листьев и побегов травы неизменно вызывало тоску по лесному и полевому приволью. Порой она достигала такой мучительной остроты, что, проходя улицами Петербурга, Корсаков отворачивался, чтобы не видеть зелени. Тяга к творчеству без отвлечений сливалась с огромной, все возраставшей любовью к природе, питавшей и поившей это творчество.
Стелёво не обмануло. «Приехав летом на дачу, — писал он Островскому несколько месяцев спустя, — я попробовал заняться прологом [12] То есть сокращением текста пролога для оперного либретто.
и так увлекся «Снегурочкой», что вскоре принялся за музыку, и, сверх всякого ожиданья, к 23 июня пролог был уже совершенно готов… Затем я решил остановиться, но не вытерпел и принялся за дальнейшее сочиненье, и, представьте, к 15 августа вся пятиактная опера была готова в наброске. Скажу Вам, что никогда ничего не сочинял с таким увлечением, как эту оперу… Огромная и сложная вещь написана в два с половиной месяца…»
Сказалось не только редкое совпадение сюжета, языка и духа пьесы с глубокими потребностями художественной натуры композитора. Уже во время работы над сборником «Сто русских народных песен» в 1875–1877 годах его потянуло к самым древним, первозданным напевам. До этого они мало привлекали знатоков. В их выразительности было нечто строгое, исполненное достоинства и той высшей естественности, какую зовут благородством. Все эти закликания весны, русальные, купальские песни, зимние колядки и прощания с зимой были сложены людьми, которые не состояли в рабах ни у бога, ни у людей. Долгие века феодального гнета обрядовые песни жили в народе как смутная, но бесценная память об ином, справедливом порядке вещей. Была в них еще одна важная черта — гармоническое слияние поэзии и знания (потому что самое представление о неизменном круговороте времен года и полевых работ было своего рода художественной и философской концепцией). Труд еще не отделился, не отшнуровался от обряда, пляски, игры. Миф был формой мышления, сказка — не забавой только, а поэтическим выражением мечты.
На переломе от крепостнического строя к пореформенным порядкам давно уже подрытые временем устои крестьянского мировоззрения неудержимо разрушались. Но их роль для русского общества оказалась важной. Начиная с Пушкина и Глинки художественные сокровища, накопленные русским крестьянством, стали одним из мощных источников передового искусства. Наследие мировой гуманистической культуры плодотворно соединялось с древней культурной традицией восточнославянских хлебопашцев и звероловов. В этом процессе синтеза и претворения былых ценностей Римскому-Корсакову принадлежит выдающееся место. С того мига, когда он открыл для себя подлинное значение старинных обрядовых песен, дав им почетное положение в своем сборнике, он, в сущности, уже заложил прочную основу для своей дальнейшей художественной деятельности и прежде всего для «Снегурочки».
Путь творчества редко бывает прост и прям. Ступенью к «Снегурочке» стала «Майская ночь», законченная годом раньше и при всех своих немалых достоинствах не столь значительная. Давно облюбованная гоголевская тема, бесподобный юмор, гротеск и поэзия повести Гоголя воплотились в музыке мелодичной, мягко окрашенной украинским колоритом. Мир сказки и мир быта лежали в ней рядом, не сливаясь. Иное дело «Снегурочка». Уже сама судьба героини крепко связывала мир людей с миром сказки. Картины одушевленной, очеловеченной природы, хоры птиц и цветов, лесные чудеса, неуклонное нарастание тепла, от последних метелей пролога до торжества Ярилы-солнца в финале, стали подлинной стихией оперы.
Музыка не обезличила пьесу Островского, как того можно было опасаться, не подогнала ее образы и сценические положения к испытанным, стершимся от частого употребления оперным образцам. Она углубила и прояснила замысел Островского. Народные песни и попевки, широко введенные в оперу, подверглись столь совершенной в своем роде обработке и так непринужденно легли на голоса и оркестр, что возникло нечто вполне новое и цельное. Вошло в оперу и то, что сам композитор называл голосами природы, — рассветный крик петуха, пенье птиц, летний гром, — и, шире, многообразная жизнь, поддающаяся воплощению в звуках. Корсаков нашел музыкальные краски для выражения белизны снега и зелени весеннего леса, для ночной прохлады и свеченья светляков, для глухой чащи заповедного бора и для добродушно-величавого шествия царя Берендея. Цветное и образное восприятие тональностей и аккордов, начавшее складываться еще в пору «Садко» и «Антара», получило в «Снегурочке» сильнейшее развитие.
В известной мере стали рельефнее и выросли персонажи первого плана — премудрый царь Берендей, пастух Лель, которого Корсаков определит позднее как олицетворение вечного искусства музыки. Каватина царя Берендея («Полна, полна чудес могучая природа!») с ее волшебным, таинственно зыбким сопровождением струнных, коснулась еще не тронутых искусством пластов сознания. От звуков повеяло лесной тишиной, чуть слышным ароматом цветов, благоговейным раздумьем, светлым любованием девичьей красотой. Песни и речитатив Леля полно выразили его натуру верного исповедника заповедей Ярилы, зазвенели свирельными полевками, окрасились теплым тоном. Мизгирь мало затронул душевные струны композитора и в общем остался оперной условностью. Зато Снегурочка от первого звонкого «ау!» в лесной чаще до последнего изнеможенья, до истаивающего «О милый мой, твоя, твоя! Последний взгляд тебе, мой милый» живее всех живых. Искрящаяся, как снежинка, и, как снежинка, хрупкая, овеянная ледяным ветерком флейтовых пассажей — в начале. Согретая сердечным теплом — в конце, когда даже колоратурные переливы голоса окрашиваются светлым человеческим чувством. Ласковая и любопытная, охваченная ревностью, еще не зная любви, она воплощение первого робкого девичества. Снегурочка — утро жизни, пробуждение женственности в девочке-подростке. Детство Снегурочки кончается в те мгновения, когда Весна-Красна, склонившись на ее мольбы, венчает девушку цветами. Пока Весна один за другим называет бесценные дары юности, оркестр, поминутно меняя окраску, переливается, как огромный самоцветный камень. Все глубже и горячее тон, и вот великой грозной силой возникает в басу тема Ярилы-солнца. На смену утру приходит жаркий день. На смену обещанью счастья должно прийти само счастье. Ранняя пора любви бывает лишь раз в жизни. Не она ли тает под легкий перезвон капели, под журчанье ручейков в корсаковском оркестре? Тайна Снегурочки — одна из тех, где слова бессильны, где поэзия умолкает и передает скипетр своей старшей сестре — музыке. «Это именно весенняя сказка — со всею красотою, поэзиею весны, всей теплотой, всем благоуханием», — писал Бородин автору уже после исполнения оперы в Мариинском театре.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: