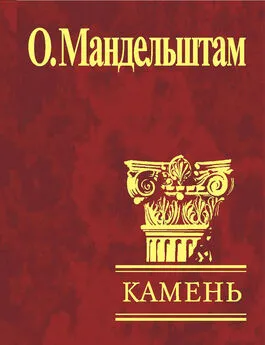Надежда Мандельштам - Мой муж – Осип Мандельштам
- Название:Мой муж – Осип Мандельштам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-078559-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Надежда Мандельштам - Мой муж – Осип Мандельштам краткое содержание
На Западе мемуары Мандельштам получили широкий резонанс и стали рассматриваться как важный источник по сталинскому времени.
Мой муж – Осип Мандельштам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Начальник ответил, что трудоустройством ссыльных органы не занимаются – это была бы «слишком большая нагрузка», в которой нет нужды, потому что ссыльные вольны заниматься чем угодно, а безработицы у нас, как известно, нет.
– А чем вы сейчас занимаетесь? – прибавил он.
О. М. ответил, что, не имея никакой оплачиваемой работы, он занимается испанским языком и литературой, в частности одним поэтом, евреем по национальности, который много лет просидел в подвалах инквизиции и каждый день сочинял по сонету. Выпущенный на волю, он записал свои сонеты, но вскоре его снова забрали и посадили на цепь. Неизвестно, продолжал ли он и тогда свою поэтическую деятельность… Может, в клубе МГБ можно организовать кружок испанского языка и поручить О. М. руководство?
Я не могу сказать наверняка, но кажется, ко времени приема до нас уже дошли слухи об аресте ленинградских испанистов, и О. М. поэтому из всех своих занятий выбрал это, чтобы сообщить начальнику.
Начальник очень удивился, услыхав про испанские проекты О. М. Он ответил, что «наши молодцы» вряд ли заинтересуются испанским языком. Мне кажется, он даже не оценил рассказа про инквизицию и только недоумевал, что за чудак сидит перед ним…
– А почему вам не помогают родные или друзья? – внезапно спросил он. О. М. ответил, что родных нет, а друзья при встречах отворачиваются, а на письма не отвечают: «Вы сами понимаете, почему»…
– Мы никому не запрещаем встречаться с ссыльными, – добродушно рассмеялся начальник и предложил перейти ко второму вопросу.
Оказалось, что речь идет о стихах: О. М. предложил начальнику отправлять ему все новые стихи по почте. «Чтобы вам не приходилось ради этого отрывать отдела своих работников», – пояснил он. Ему хотелось, как он мне потом сказал, повторить за начальником слово «молодцы»: «Зачем вашим молодцам таскаться ко мне за стихами?» Но от этой сугубо патриархальной терминологии он, к счастью, воздержался.
Начальник становился все добродушнее. Он заверил О. М., что его учреждение никакими стихами не интересуется – только контрреволюцией! «Зачем нам ваши стихи – пишите, что хотите!», но тут же он неожиданно прибавил: «А почему вы написали те стихи, из-за которых все вышло? Испугались коллективизации?» В партийных кругах было принято говорить о раскулачивании как о прошлом, изящно признаваясь, что это дело, необходимое и полезное, проводилось так решительно – «перегибы, конечно, имели место, не скроешь» – что подействовало на нервы кое-каким неустойчивым гражданам. Ответ О. М. прозвучал неопределенно: вроде и так, да не совсем… а может, не только…
Во время нашего разговора начальнику позвонили по телефону, и мы запомнили его реплики: «Да, да… это клевета… пришлите, оформим…» Мы поняли, что решается чья-то участь и оформляется ордер на арест по доносу: некто что-то сказал… Этого было достаточно, чтобы исчезнуть из жизни. Что бы мы ни сказали – обыкновенного, такого, как говорят повсюду, кроме нашей страны, – нам можно было это предъявить в качестве обвинения. Расходясь после разговора с друзьями, мы часто подытоживали: «Сегодня мы наговорили на десять лет»…
Расстались мы с начальником вполне дружелюбно. Я спросила у О. М.: «Зачем тебе понадобилась эта петрушка?» Он ответил: «Пусть знает», а я с обычной женской логикой завопила, что «они и так все знают»… Однако настроения О. М. мне испортить не удалось, и несколько дней он ходил веселый, вспоминая детали разговора. Кое-чего он все же добился: стукачей словно смыло и ни один из них больше не появлялся до самого конца воронежской жизни. А зачем они, собственно, были нужны? Ведь стихи все равно попадали куда следует, правда, в Москве, а не в Воронеже, через бдительного Костырева и редакции журналов.
Остается вопрос: почему начальник убрал от нас своих стукачей вместо того, чтобы обвинить О. М. в клевете и выписать на него ордер? Быть может, еще действовал приказ «изолировать, но сохранить» или же О. М. числился «за Москвой», а Воронеж присылал своих стукачей просто из служебного запала: и мы не лыком шиты! А возможно, что начальник просто позволил себе некоторый либерализм. Это иногда случалось: ведь начальники тоже люди и, может, некоторым из них надоедало убивать. Странно только, что все это делали люди, самые обыкновенные люди: «Такие же люди, как вы, с глазами, вдолбленными в череп. Такие же судьи, как вы»… Как это объяснить? Как это понять? И еще один вопрос: зачем?
Моя святая
Срок трехлетней ссылки кончался в середине мая 1937 года, но кто интересовался сроками? Мы не формалисты – срок – это вопрос удачи, а не права: могут скостить, а могут и прибавить – кому как повезет. Опытные ссыльные, вроде чердынских, радовались, если им с ходу прибавляли несколько лет. Ведь законное оформление «прибавки» означало бы новый арест, новые допросы и обвинения, а потом ссылку в новое, еще необжитое место, а лагерники и ссыльные знают, как важно продержаться как можно дольше на одном месте. В этом, в сущности, закон спасения – люди обзаводятся друзьями, которые помогают друг другу переносить каторжные условия, обрастают жалким скарбом, пускают, так сказать, корни и тратят меньше сил на борьбу за существование. Да что говорить о ссыльных! Для любого человека переезд в наших условиях – непосильная встряска; ведь недаром же люди так держатся за свою жилплощадь. Только неисправимый бродяга О. М., для которого была невыносима сама мысль о прикреплении, мог тяготиться Воронежем и мечтать о перемене местожительства. Ничего, кроме беды, никакая перемена не приносит.
В апреле я ездила в Москву и, убедившись, что передо мной гладкая стена, которую нельзя прошибить, писала для утешения в Воронеж, что близится срок и мы скоро куда-нибудь переедем. О. М. никак не реагировал на эти утешения. Попалась на удочку моя мать, которая приехала в Воронеж пожить с О. М., чтобы дать мне возможность съездить в Москву за новыми надеждами.
Зачем на пороге новой эры, в самом начале братоубийственного двадцатого века, меня назвали Надеждой? Я ведь только и слышала от друзей и знакомых: «Не надейся, что кто-нибудь поможет – все привыкли, что вы погибаете… На частную помощь не надейся, на работу не надейся… Никто не прочтет твоего письма – не надейся… Никто не пожмет руку – не надейся… Никто не поклонится при встрече – не надейся… Ишь чего вздумала!»… А на что было надеяться? Ведь без надежды жить нельзя, и приходилось мне идти от одной обманувшей надежды к другой. В Воронеже мы могли жить только на частную помощь, как нам посоветовал великодушный начальник МГБ, но мы убедились, что надеяться на нее не следует, поэтому у нас не оставалось ничего, кроме надежды на переезд.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: