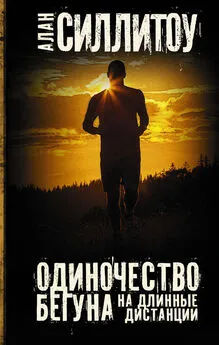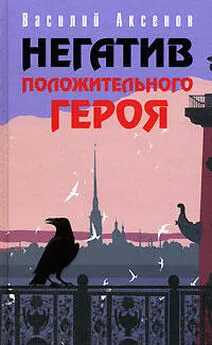Виктор Есипов - Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции
- Название:Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-45170-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Есипов - Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции краткое содержание
Во втором разделе книги представлена переписка Василия Аксенова с друзьями и близкими людьми.
Третий раздел составляют интервью с ним, взятые российскими и зарубежными журналистами с 1980 по 2008 год.
Книга открывает перед читателем панораму общественной и литературной жизни Советского Союза, эмиграции и современной России.
Литературно-художественное издание предназначено для широкого круга читателей.
Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Что это было? Мгновенное просветление? Эффект окошечного сознания, как называют такие просветления врачи-невропатологи? Или он все время был в сознании, но не хотел общаться?
Врачи не смогли ответить на этот вопрос.
Сейчас, когда его уже нет среди нас, вспоминаются некоторые суждения о нем — не о писателе Василии Аксенове (о том уже много сказано и еще будет сказано), а о человеке.
Например, Бенедикт Сарнов, когда речь заходила об Аксенове, очень часто восклицал: «Кто бы мог подумать, что такой стиляга и пижон, как Вася, станет примерным семьянином, опорой для Майи и ее семьи!» — подразумевая под семьей дочь Майи Алену и ее сына Ивана, которых Василий, так же как и Майю, обеспечивал материально.
А вот Анатолий Гладилин в книге «Улица генералов» [219] Анатолий Гладилин. «Улица генералов»: М., «Вагриус», 2008.
выделил другое его качество: Аксенов за время эмиграции (не в последнюю очередь благодаря преподаванию в американском университете) стал очень образованным человеком, интеллектуалом.
Старый друг Аксенова, известный джазист Алексей Козлов считает, что Василий всегда был «джазовым человеком».
На меня же, быть может, наиболее сильное впечатление произвело признание Аксенова, как его мучила совесть за то, что он отказался пожать руку подлецу. Дело было на каком-то публичном мероприятии в Вашингтоне уже в годы советской перестройки. И человек, нагадивший в свое время Аксенову в Москве, остался стоять с протянутой в пустоту рукой. А Василий потом корил себя за то, что отомстил ему слишком жестоко.
Дмитрий Петров [220] Дмитрий Павлович Петров (р. 1958), писатель, журналист, автор книги «Аксенов», «Молодая гвардия», 2012.
Мифы, сокрушившие колосс
Как-то в одной радиопередаче обсуждали вопрос: надо ли продавать книги, в которых авторы использовали «ненормативную лексику» и куда включали «непристойные сцены», в запечатанных пакетах с предупредительной надписью.
Я призвал коллег учесть, что тогда пришлось бы запечатать в конверты немало сильных и популярных романов наших видных современников. Налепив на них ярлык «непристойных». В том числе — и тексты классика нашей литературы Василия Аксенова. И «Ожог». И «Скажи изюм». И «Остров Крым». И ряд других. И, согласитесь господа, сказал я, было бы странно — продавать книги одного из самых ярких прозаиков XX века в этаких упаковочках.
И до чего же странно было воспринято мое замечание! Разве же, вопрошал ведущий, Аксенов — классик нашей литературы? Ведь он же американский писатель! Так как же вы?.. Да с какой же стати?.. Впрочем, закатывать «Ожог» и «Остров Крым» в целлофан он, ведущий, не стал бы. Ибо это и впрямь серьезные произведения видного русскоязычного иностранца.
Сказано это было спустя много лет после возвращения Василию Павловичу гражданства.
Но даже если б не вернули…
Разве назовешь Аксенова американским писателем? Или советским? А то — постсоветским? Или антисоветским? Я б не решился. Хотя бы потому, что он много лет путешествовал вне всех этих формальных границ. Свободно перемещался из контекста в контекст, из эпохи в эпоху, из страны в страну, познавая мир за миром и творя миф за мифом.
Творя мифы, менявшие миры. При деятельном участии их автора. Аксенов описал, а отчасти и воплотил большие мечты своих персонажей. Что, согласитесь, мало кому удается…
Об этом мы и толковали в Котельниках 28 ноября 2003 года. Вспомнить дату легко — она проставлена на книге «В поисках грустного бэби», подписанной Василием Павловичем в тот вечер. Не сложно восстановить и фрагменты беседы — я записывал ее на диктофон.
И «Бэби» я прихватил не случайно: разговор шел об Америке и Западе, и больше — об особом западном мифе, вмещавшем кучу всего — от кока-колы и джинсов до ленд-лиза и джаза.
Ясно, что мифологическая география творчества Аксенова не исчерпывалась Штатами, но включала в себя и Москву, и Париж, и архипелаг Большие Эмпиреи, и Кукушкины острова… И Крым, само собой. Тот самый — остров… В котором, как мне представлялось, под трехцветным флагом сказочной свободной страны выписана модель одной из возможных будущих Россий…
— На роль прорицателя я не претендую, — ответствовал Василий Павлович, — а что до кока-колы… Порой я удивляюсь, почему, когда говорят об американизации мира, толкуют о «Макдонал-дсах»… Это же не идеологический состав — котлета и булочка! А вот кока-кола — это была просто жидкая идеология! В 67-м в Болгарии наши моряки рассказали мне, как их пароход зашел в греческий порт. И два возбужденных юноши-матроса-комсомольца спросили у капитана: «А можно мы, когда пришвартуемся, пойдем и кока-колы выпьем?» Тот посмотрел на них из-под козырька и гаркнул: «Идите на х…!» Чудный ответ! Мужик виртуозно снял с себя ответственность… Но что еще он мог сказать?
— Но что, — спросил я, — считалось в ту пору более зловредным культурным динамитом — жидкая «дурманная» кока-кола или глянцевый Playboy? (Не случайный, понятное дело, вопрос: ведь было в «Бэби» про журнал, было; но — хотелось из первых уст.) Это же потеха — истории о людях, провозивших в СССР «Playboy» — еще одно «тайное орудие империализма».
— Сейчас — потеха. А в 60–70-х страшновато это было. «Playboy» циркулировал в Москве, вызывая невероятный интерес. Его можно было за дикие деньги купить…
Но один из сильнейших ударов по красной идеологии нанесло все же баночное пиво. Это был предел мечтаний совка — пиво, которое не бьется и не тухнет!
Ну как тут не вспомнить, подумалось мне, Евтушенко и его «Северную надбавку», где бригадир то ли монтажников, то ли нефтяников на их вопрос: «А будет у нас «Жигулeвское», которое не разбивается?» — отвечает: «Не все, товарищи, сразу — промышленность развивается…»
— Один большой специалист по этому вопросу, — продолжил меж тем Аксенов, — написал в свое время статью о том, почему советское баночное пиво получалось такой халтурой. Закупали на Западе оборудование, запускали — и ни черта: пиво тухло и тухло.
Оказывается, забыли про состав, покрывающий внутреннюю поверхность банок и не допускающий скисания! Автора вызвали на Политбюро! И он им все это выложил. А после рассказывал, как пятнадцать мрачных старцев за ним записывали! В святая святых советской системы высшее руководство решало вопрос производства баночного пива… Ясно, что крах был не за горами. Хотя никто и не знал — когда.
А еще — солнечные очки!
Аксессуар редчайший и престижнейший…
Вот история: в Праге в семье эмигрантов из России был сын Сергей — младшеклассник. Отлично говоривший по-русски. И когда туда прибыл с визитом Хрущев, Сережу отправили приветствовать всесильного гостя. Парень вышел и на чистейшем русском произнес речь. Никита Сергеевич растрогался. «Бог ты мой! — воскликнул. — Как тебя звать?» — «Сергей». — «Как же ты русский так выучил?» — «Я из русской семьи». — «А кто твой папа?» — «А он в СССР сидит в лагерях»… Хрущев поставил его рядом и время от времени с ним заговаривал. Тут из-за туч вышло солнце, и Сергей надел западногерманские солнечные очки. «Что за очки у тебя?» — спросил Хрущев. «Это от солнца. Хотите, подарю?» И подарил.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: