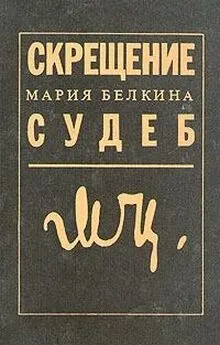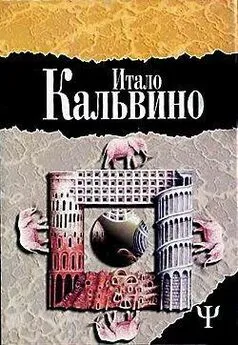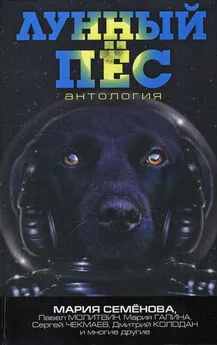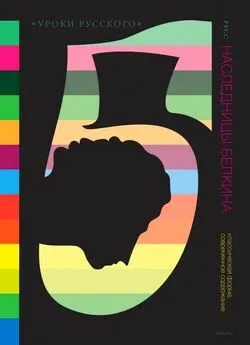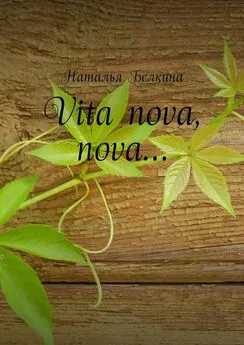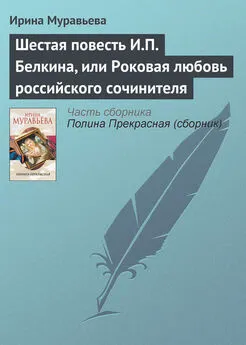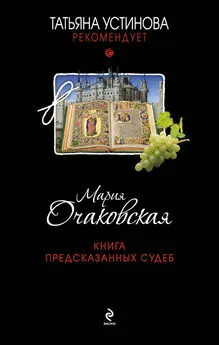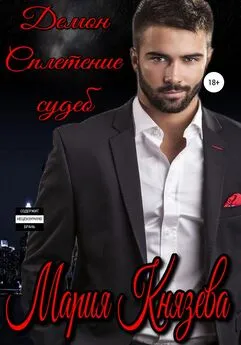Мария Белкина - Скрещение судеб
- Название:Скрещение судеб
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Рудомино
- Год:1992
- Город:Москва
- ISBN:5-7380-0016-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Белкина - Скрещение судеб краткое содержание
О жизни М. И. Цветаевой и ее детей после эмиграции ходит много кривотолков. Правда, сказанная очевидцем, вносит ясность во многие непростые вопросы, лишает почвы бытующие домыслы.
Второе издание книги значительно расширено и дополнено вновь найденными документами и фотографиями.
Для широкого круга читателей.
Скрещение судеб - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А потом приезжал Павлик Антокольский, его дочь Кипса жила в нашем доме, и мы с Павликом часами кружили по узким улочкам вдоль глинобитных дувалов, за которыми были скрыты дворы и дома узбеков, и он говорил, говорил о своем красавце сыне, о мальчике сыне, только что убитом на фронте… А у меня на плече, сопя в ухо, спало крохотное белобрысое существо, которое называлось моим сыном.
А по площади на широком плацу с раннего утра допоздна маршировали, изнывая от жары, будущие солдаты, вернее, те, из которых делали солдат, и во время перерывов они бросались к нашим окнам и просили пить, и отец постоянно держал наготове ведро с водой. И среди этих солдат маршировал Шип, тот самый Боря Шиперович из московского книжного магазина, подбиравший тогда, летом 1940-го, книги для Марины Ивановны, а потом, пройдя войну, в Бреслау, в ангаре, обнаруживший среди развалов Тургеневской библиотеки письма Марины Ивановны к М. С. Цейтлин, те письма, которые попадут мне в руки в семидесятых годах и которые я так и не успею передать Але…
Вот в этом Ноевом ковчеге, в этом доме на Карла Маркса 7, и поселилась, приехав из Чистополя, Анна Андреевна. В ее крохотную комнатку был вход со двора, где стоял многоочковый зловонный сортир, к которому можно было подойти только в галошах. Крутая лесенка вела на узкий балкончик, идущий вдоль стены, и в углу прямо с балкончика — дверь в комнату Анны Андреевны. А потом в этом Ноевом ковчеге, там же — на втором этаже, поселился и Мур…
Как-то, когда Анны Андреевны не было дома, к ней зашла Златогорова, бывшая жена Каплера, они вместе написали сценарий одной из серий прогремевшего тогда фильма «Ленин в Октябре». Это была очень роскошная, модно одетая женщина, особенно роскошная для Ташкента.
Под ярким японским зонтиком она прошла мимо арыка, мимо моих окон, где я в тени деревьев пасла сына. Она не застала Анны Андреевны и, возвращаясь назад, попросила меня передать ей сверток, предупредив, что если у меня есть кошка, то чтобы я спрятала подальше, ибо это котлеты. От свертка исходил уже забытый запах, и мой отец, принюхиваясь, говорил: «…домом пахнет, Конюшками…»
Когда я поднялась к Анне Андреевне, она как всегда лежала на кровати — быть может, и стула-то в комнате не было, не помню. Кровать была железная, с проржавленными прутьями, — такие кровати добыли для нас из какого-то общежития, и мы были им рады. Я попала второй раз к Анне Андреевне — в первый раз она тоже лежала и, отложив книгу в сторону, выслушала меня. К нам тогда повадились цыгане, и одна цыганка, очень хорошенькая, молоденькая, пришла в пальто, накинутом на голое тело, и объяснила нам, что ей нечего надеть, она бежала от немцев из Молдавии. Мы тогда дали кто что мог и одели ее; от Анны Андреевны ей досталась ночная рубашка. И вот прошло дней десять, и эта же девчонка-цыганка, запамятовав, должно быть, что была уже в нашем доме, снова появилась на пороге и снова под пальто была голая. Она нарвалась на мою мать, которая, отругав ее, прогнала, мне же велела быстро предупредить Анну Андреевну, а то та не разберется и опять что-нибудь даст этой вымогательнице. Анна Андреевна, выслушав мой рассказ о цыганке, промолвила:
— Но у меня нет второй ночной рубашки…
На этот раз, когда я пришла со свертком от Златогоровой, Анна Андреевна лежала, закинув руки за голову, а на груди у нее была открытая записная книжка — я, должно быть, прервала ее работу.
— Опять цыганка? — сказала она, глядя в потолок.
Она лежала все в том же черном платье с открытым вырезом и ниткой ожерелья на шее, босая, длинноногая, худая, с гордым профилем, знакомым по картинам и снимкам, запрокинув голову, и казалось, написанная на холсте черно-белыми красками, и за солдатской койкой — чудилось — не эта дощатая стена с обрывками грязных обоев, а гобелен с оленями и охотниками и под ней — не солдатская железная койка, а белая софа…
Понимая, что Анна Андреевна может быть голодна, я хотела, чтобы она сразу обратила внимание на принесенный сверток, и почему-то никак не могла произнести, казавшееся мне, в этот момент, вульгарным слово — котлеты, и что-то промямлила про съестное.
— Благодарю вас! — проговорила она, — положите, пожалуйста, на стол. — И, повернув ко мне голову, добавила: — Поэт, как и нищий, живет подаянием, только поэт не просит!..
В углу ее кельи стояло пустое помойное ведро и кувшин с водой: кто-то уже вынес помои и наполнил водою кувшин. Я ни разу не видела, чтобы Анна Андреевна принесла себе воду или сама вынесла помои, это всегда делали за нее какие-то нарядные женщины, актрисы и чьи-то жены, которые поодиночке и табунками приходили в ее келью, и если кто-нибудь из нас, живущих в доме, не принес бы ей пайковый мокрый хлеб, который выдавали по карточкам и за которым надо было стоять в очереди, то она жила бы без хлеба, а если бы не принесли воду, то и без воды. Она, как Марина Ивановна, ненавидела, презирала всякий и всяческий быт и с полнейшим равнодушием относилась к житейским невзгодам, она делала вид, что не замечает нищеты, нужды, голода; она, одинаково королевствуя, могла жить и в хижине и во дворце, конечно, во дворце было бы удобнее, но что поделаешь…
Она могла целый день лежать на своей солдатской койке, закинув руки за голову, уставившись глазами в потолок. Она была одна — она могла себе позволить так, да и потом она как-то умела, как-то это получалось само собой, что все за нее все делали. Ахматова! — и все кидались… Цветаева?! Но Цветаева не была одна. Тогда в двадцатом — две маленькие голодные девочки, которых она не могла и не умела прокормить, но билась, старалась как умела, как могла: и ездила с мешочниками по деревням менять вещи на сало и муку, и стояла в очередях за пайковой селедкой, и тащила саночки с гнилой картошкой. Потом в эмиграции под Прагой — деревенский быт с керосинками, жестяными лампами, с вязанками хвороста, с печами, которые надо было научиться топить. Потом Франция — фабричные окраины, полунищенское существование, пеленки, стирка, готовка, штопка, надо накормить каждый день семью…
Представить себе, чтобы Ахматова, идя по московской улице, нагнулась бы и подняла кем-то оброненную луковицу!? Цветаева нагнулась и машинально подняла, а может быть, и не машинально, может быть, завтра пригодится в суп, надо кормить Мура… Надо!..
Когда Ахматова и Цветаева встретились наконец и увидели воочию друг друга в июне 1941 года, то Ахматова потом вспоминала, как Марина Ивановна сказала ей, что она всегда всех расспрашивала, какая она — Ахматова?
— И что же вам отвечали? — спросила ее Ахматова.
— Отвечали: просто дама.
Дама — это очень подходило к Ахматовой, к ее внешности, к ее манере держаться, говорить. Дама и Цветаева — не сочеталось! Ахматова у себя дома, в гостях ли, в кресле, на диване, на кровати, всегда не сидела, а восседала, прямая, гордая, величественная, даже когда была худой; статуарная и молчаливая, она не говорила, а роняла слова, роняла точные, весомые, именно те, которые хотела обронить, она знала — потом будут говорить: «Ахматова сказала!..» Если Ахматова была не согласна с кем-то из присутствовавших, она могла, не возразив, только чуть усмехнувшись, отвернуться, давая понять, что тот, говоривший, недостоин ее возражения. Марина Ивановна не только должна была тут же возразить, сказав, что тот не прав, но еще и убедить того в его неправоте и доказать, что права именно она, а не он, и, увлекшись в доказательствах своих, забывшись, унестись на Эверест, оставив того, с кем говорила, ползать по земле…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: