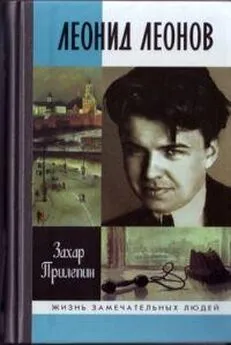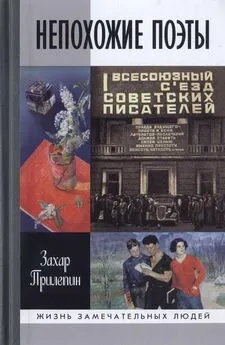Захар Прилепин - Подельник эпохи: Леонид Леонов
- Название:Подельник эпохи: Леонид Леонов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-4269
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Захар Прилепин - Подельник эпохи: Леонид Леонов краткое содержание
Подельник эпохи: Леонид Леонов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но по поводу его, на наш взгляд, ошибочного восприятия творческого метода Леонида Леонова стоит сказать отдельно.
Во многих своих текстах Леонов словно бы нарочито стремится избежать и точного бытоописательства, и наглядной прототипизации, и даже того, что именуется «правдой характеров».
Фурманов еще после «Барсуков» сетовал, что Леонов-то и не очень знает революцию — хотя кто-кто, а как раз Леонов представление о ней имел вполне наглядное, да еще и с разных сторон. Подобный опыт мало у кого имелся.
Но Леонов осмысленно выбрал свою собственную манеру письма. Его, в конечном итоге, не очень интересовал суетный людской мир со всеми его приметами. Леонова увлекал человек или, если угодно, Человек с прописной буквы, хотя в понимании писателя он звучал вовсе не гордо.
«Нет занятия горче, чем в упор разглядывать человека», — мимоходом бросит Леонов в первом варианте «Вора».
Но именно этим Леонов и занимался, осознанно создавая в известном смысле умозрительные схемы или, как сам писатель любил говорить, соотношения многих и многих координат, меж которых человек проявлялся со всею своей сутью.
«Можно предмет воссоздать через описание его физических качеств, а можно — через вычисление пространства», — вот кредо Леонова. Куда больше реальности его интересовало «логарифмирование», «обобщенная алгебраичность», «плазматическое состояние вещества» — это всё леоновские выраженьица.
В этом смысле художественные миры Леонова самоценны, потому что выстроены согласно тем законам, которые поставил пред собой сам автор, и только он.
Отвечая в 1920-е годы на вопрос очередной литературной анкеты: «Ваш любимый герой в романе?» — Леонов ожидаемо отвечает так: «К черту героев, мне автор нужен».
В этом смысле работа над «Вором» — идеальный случай демонстрации авторской воли, для которой всякий герой является лишь функцией.
В завершение темы не мешало бы понять, в какой атмосфере писался этот роман и кому отвечал Леонов в интервью.
На тот момент существовали, как минимум, две опасности для самого понятия «автор»: с одной стороны — формалистический подход, отрицавший писателя как носителя собственной культурной и тем более идеологической самоценности, с другой — теория факта низводила статус писателя до собирателя и монтажера материалов, предоставляемых самой действительностью.
Ни первый, ни второй вариант Леонова радикально не устраивал.
С небом и на земле
В 1926 году в Москву ненадолго приезжает из Архангельска Максим Леонович. Леонов сделал тогда фотографию отца: его жуткие, черные, опустошенные глаза видны на снимке. Отцу пришлось в тюрьме разгребать братские могилы с расстрелянными — и это буквально надломило его психику и здоровье.
Больше они не увидятся.
Ясно, на чем была замешана детская обида Леонова на отца: да, оставил Лёню, братьев его и сестру еще детьми. Но остается загадкой, почему Леонов так, кажется, и не простил отца даже после совместных архангельских мытарств.
Может быть, на всю жизнь оглушенный ужасом возможного ареста и развенчания, Леонов втайне решил, что отец приносит только несчастье всем своим детям, трое из которых уже умерли? Известно ведь, что единственный оставшийся в живых брат Леонова, Борис Максимович, человек светлой и доброй души, тоже никогда не ездил в Архангельск. И он не простил отцу заброшенности своей!
В том же 1926 году Леонов последний раз обращается к поэзии и создает маленькую поэму «Запись на бересте»: о трех товарищах, ушедших в леса из трудного и грешного мира и перессорившихся там из-за женщины. Поэма будет опубликована в журнале «30 дней».
Одновременно в издательстве «Никитинские субботники» выходит первая книга, посвященная Леониду Леонову. Потом их будут десятки, но началось все со сборничка со статьями А.Воронского, Г.Горбачёва, Д.Горбова, вышедшего пятитысячным тиражом.
Это было наглядным признаком успеха молодого литератора, хотя в середине двадцатых назвать Леонова писателем, лояльным власти, было почти невозможно. В текстах его «советское» надо было выискивать и просеивать самым мелким решетом.
Главный редактор «Красной нови» Александр Воронский отдавал себе в этом отчет, но был, как и многие, очарован неожиданным и молодым дарованием, мечтая, что славно было бы посеять на этом черноземе иные семена.
Воронский писал тогда: «Творчество Леонова реалистично <���…> но его едва ли можно назвать попутчиком революции. Тем более он чужд коммунизму» (Воронский А. Литературные типы. Круг // Леонид Леонов. М., 1926).
При том, что самого Воронского деятели РАППа считали буржуазным перерожденцем. Так, И.Вардин говорил в те годы: «Наш главный критик, как известно, — тов. Воронский. Но заявляю категорически, что Воронский — критик не большевистский. У него нет марксистского подхода к разбираемому произведению…»
И вот для такого, самых широких взглядов критика, как Воронский, Леонов даже не попутчик.
Схожий взгляд был и у наркома просвещения Анатолия Луначарского. «Леонов, — писал он, — несмотря на свои молодые годы, конечно, крупнейший писатель современной России. За таких людей придется выдержать немалую борьбу. Две души живут в их груди».
Какие именно «две души», Луначарский не поясняет, но догадаться можно. Одна — казалось бы, способна принять революцию, вторая — явно реакционна.
Леонова еще надо учить, уверен Луначарский, потому что это молодое дарование явно не может «быть квалифицированным, как зачинатель коммунистической литературы» (Луначарский А.В. Тезисы о политике РКП в области литературы. 1925).
В эмиграции, напротив, ненавидя все большевистское, многие считают Леонова почти за «своего». К тому же само существование Леонова знак для них, что «там», за красным кордоном, еще есть литература.
Первый критик эмиграции Георгий Адамович уверенно пишет: «Конечно, ни Бабель, ни Всев. Иванов, ни Булгаков или Федин не могли бы написать “Вора” — или подняться до художественного уровня этого романа. Среди “молодых” у Леонова сейчас соперников нет».
Забавно, что в этом сходятся и Луначарский, и Адамович.
В Советском Союзе об отношении эмигрантов к Леонову знают. «Петушихинский пролом» не случайно был перепечатан в эмигрантской прессе (Воля России. 1925. № 1–2) — ставил на вид официальный критик Нусинов.
Однако очевидный талант перемалывает пока все упреки.
Даже на роман «Вор» некоторые рапповские критики отреагировали благосклонно. Заместитель ответственного редактора журнала «На литературном посту» Владимир Ермилов, высказываясь о социальном заказе и о том, что он «правильнее всего формулируется сейчас властным, раздельным требованием: че-ло-ве-ка!..», — неожиданно вспоминает о Леонове. «Молодой и едва ли не самый глубокий писатель из попутчиков — Леонид Леонов — взял на себя задачу показать человека, — утверждает Ермилов. — Если у других писателей эта задача выступала как побочная (человек — придаток мебели у Пильняка), то для Леонова именно человек и есть главное, основное, единственно ценное…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: