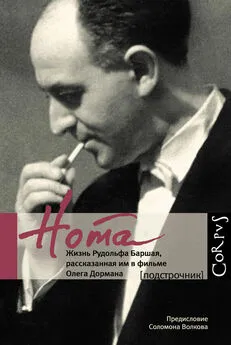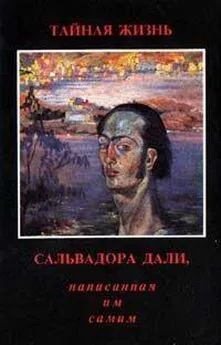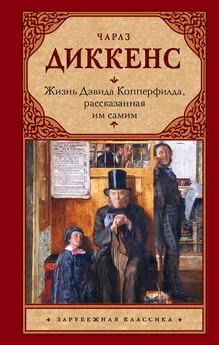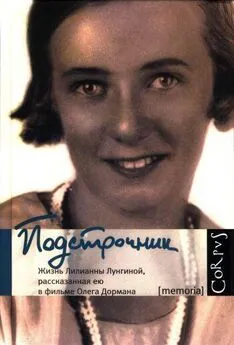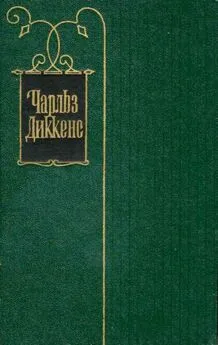Олег Дорман - Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана
- Название:Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, CORPUS
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-079729-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Дорман - Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана краткое содержание
Книга создана по документальному фильму «Нота», снятому в 2010 году Олегом Дорманом, автором «Подстрочника», и представляет собой исповедальный монолог маэстро за месяц до его кончины.
Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
20
Мне удалось поселиться в коммуналке в Лебяжьем переулке — знаете, он начинается у Каменного моста и упирается в Пушкинский музей. Сейчас уже не помню как, но смог получить там комнату, и мы стали жить с родителями отдельно.
Однажды рано-рано утром мне позвонил папа: «Рудик, у нас нет больше мамы».
Прямо перед ее похоронами я заболел тифом. Попал в больницу. Оттуда поехал на похороны. У меня была высокая температура, я был в какой-то дремоте, почти без сознания, когда хоронил маму. И когда потом вернулся в палату, там уже понял весь этот ужас, что мамы нету. Помню, как горько плакал на железной больничной кровати. Не понимал, как это — мамы нет. Вся жизнь моя вертелась вокруг маминой заботы и маминой теплоты. Это до сих пор у меня боль в сердце, когда я про маму думаю. Я с ней советуюсь, бывает. Такой второй мамы, как мне казалось, нет, не существует. Но так, может быть, каждому кажется.
21
В сорок шестом году я участвовал в конкурсе на вакантное место альтиста и начал играть в оркестре Большого театра. Это был в то время лучший советский симфонический оркестр. Руководил им Николай Семенович Голованов. Он пришел в Большой еще до революции, а прежде был регентом церковного хора, преподавал в Синодальном училище. При советской власти его несколько раз увольняли из театра, потом возвращали снова. Кто слышал, как он дирижирует оперы Мусоргского, не сможет их слушать больше ни в чьем исполнении. Он вообще был крупнейшим дирижером русской музыки.
В консерваторию я ходил только на занятия с педагогами, на другие уроки времени не оставалось. А экзамены сдавать надо. В частности, по марксизму-ленинизму. Но тут Славка придумал гениальную вещь, которая нас обоих спасала. Называлось «Ростроповичев глаз». Это был чистый лист бумаги с аккуратно прорезанным сверху окошком шириной в строчку. Под него клалась заранее заготовленная шпаргалка, и ты делал вид, что пишешь ответ, а на самом деле, глядя в окошко, строка за строкой все списывал. Потом шпаргалку прятал, верхнюю часть листа с прорезью аккуратно по линеечке отрывал и шел к экзаменаторам читать ответ.
День мой был такой: с утра репетиция в Большом, потом где-нибудь на ходу перекусить — и на репетицию квартета, вечером спектакль в Большом. Конечно, я здорово уставал. В оркестре бывало интересно, только если дирижировал Голованов, с другими дирижерами я скучал.
Теперь, когда прошло столько лет, я понимаю, как многому научился у Голованова, хотя мальчишкой над какими-то вещами посмеивался. Скажем, он требовал от всех полнейшей отдачи — и мы с другими альтистами развлекались так: играли fortissimo с высоко поднятыми инструментами — только совсем тихо. В грохоте медных и ударных это ничего не меняло, но Николай Семенович видел, как мы вдохновенно задираем инструменты, и одобрительно нам кивал. А вообще я играл без халтуры, он умел воспламенить оркестр с первой ноты и требовал ни на секунду на протяжении целого спектакля не терять этого накала. Каждое вибрато должно было играться с полной выкладкой. «Что вы спите, — кричал он, — почему не играете?!»
Кричал он много и людей обижал запросто. Когда приходил на репетицию, стояла такая тишина — муха не пролетит. Боялись его. Если особенно свирепел, то Виктор Львович Кубацкий, виолончелист, его старинный друг, ему тихонько говорил (я слышал): «Не бушуй, Коля». И надо сказать, Голованов мгновенно успокаивался.
Видит, кого-то нет на репетиции. А у него, объясняют, сегодня студенты в консерватории. Голованов говорит: «Понабрали профессоров — играть некому». Хотя и сам был действующим профессором, а кроме того, еще руководил оркестром Радиокомитета.
Тут две вещи сошлось. Почтенная, увы, традиция дирижера-тирана, которой ломает палочку о голову оркестрантов, — и сталинская система управления, основанная исключительно на страхе. Она вытаскивала из людей худшее.
Но была и еще одна сторона. Все понимали, что Голованов служит исключительно музыке и в первую очередь не щадит самого себя. Оркестр в его руках превращался в единый организм, отзывался на каждый жест и ни у кого другого не звучал так полно. А дирижерская палочка у Голованова была строгая и ясная, никаких разночтений. Затакт сильнее, чем такт, этим все сказано. Сильные музыканты были рады подчиняться ему, слабые сопротивлялись и ныли.
Говорили, он антисемит. Не могу свидетельствовать. Помню, как он орал на репетиции: «А где евреи? Оркестр вообще не звучит!» Знаю, что многим музыкантам помогал. Когда позже уничтожали Прокофьева — я расскажу, — Голованов устроил в Большом театре оркестровую премьеру фрагментов его нового балета, и после нее оркестр и он сам обрушили на Прокофьева такие аплодисменты, что, в общем, можно было Николая Семеновича в очередной раз увольнять. Что не сразу, но вскоре, и было сделано.
А когда я только поступил в Большой, ставили «Ромео и Джульетту». Дирижировал Юрий Федорович Файер, главный балетный дирижер театра. Прокофьев приходил на все репетиции. Если Файер просил, он с готовностью вносил изменения, и на следующий день приносил новый вариант на огромных подклеенных, переклеенных партитурных листах. Музыка мне так нравилась, что я переложил несколько номеров для альта с фортепиано. Однажды в антракте подошел к Прокофьеву, сказал, что вот сделал такие обработки и хотел бы ему показать. «Ну конечно.
Приходите ко мне домой». Жил он в проезде Художественного театра. Я пришел. Он сел смотреть ноты, потом говорит: «Вот это место мне не совсем ясно. Разве можно так на альте сыграть?» — «У меня инструмент с собой, Сергей Сергеевич. Послушаете?» Сыграл. «Видите, — говорю, — даже очень просто». Почему-то это его очень обрадовало и расположило ко мне. «Надо же! Я не знал, что так можно. Слушайте, как здорово!» И с тех пор началось наше общение. Он был милый человек и огромный композитор, но все же я бы не произносил их с Шостаковичем имена через запятую. Как Антон Веберн однажды написал Бергу: «Получил твое письмо, в котором ты обожествляешь Баха и Генделя, но, знаешь ли, два этих имени нельзя произносить на одном дыхании». Прокофьев занимался, что называется, «искусством для искусства», недаром он был так силен в балетной музыке. Когда начались гонения, преследовали его действительно за диссонансы, а не за содержание музыки. Даже в официозных вещах, вроде «Семена Котко» или оратории «На страже мира», Прокофьев совершенно не изменял себе. Послушав же Четвертую симфонию Шостаковича, невозможно не задуматься, о чем он рассказывает, и не оглянуться вокруг. Сам Шостакович терпеть не мог литературщину в музыке, но и я говорю не о программе, а именно о музыке. Он стеснялся своей «Песни о лесах», хотя, в общем, это была честная попытка написать «популярную музыку». Когда я дирижировал его симфонии с хорошим оркестром, у меня всегда оставалось чувство, что я за один вечер прожил целую жизнь. Прокофьева я играл с охотой, но такого чувства не было.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: