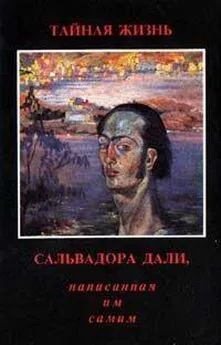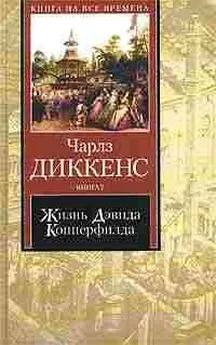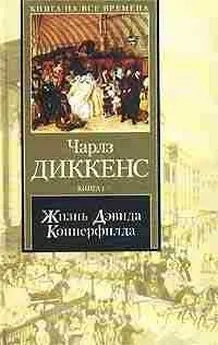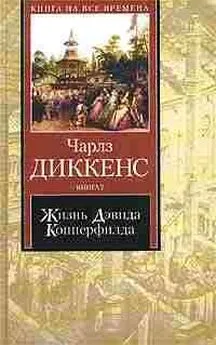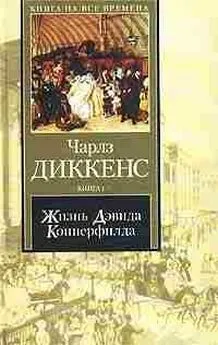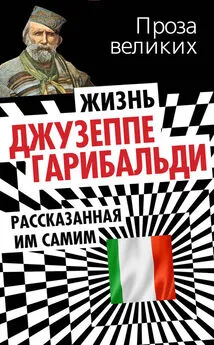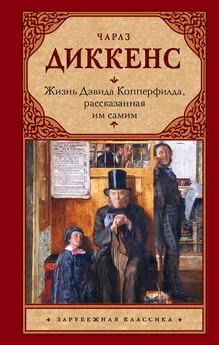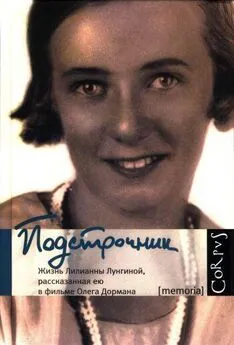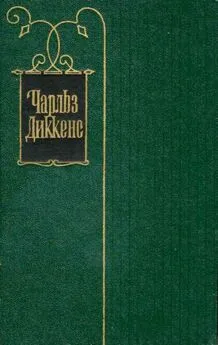Олег Дорман - Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана
- Название:Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, CORPUS
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-079729-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Дорман - Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана краткое содержание
Книга создана по документальному фильму «Нота», снятому в 2010 году Олегом Дорманом, автором «Подстрочника», и представляет собой исповедальный монолог маэстро за месяц до его кончины.
Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я старался подхватить у него легкость звука, легкость звукоизвлечения. Его смычок иногда как будто летал над струнами. Это связано, кроме прочего, с колоссальной свободой обеих рук. Никакого напряжения — то, что немцы называют entschlossener Bogen , уверенная рука. Ойстрах в этом отношении был непревзойден. Как звучала у него вторая часть Симфонии Кончертанте, трагическая, пронзительная! Я читал, что Моцарт сочинял ее в Париже, в дешевой гостиничке, зарабатывая на жизнь уроками, в то время умирала его мать.
Когда мы играли премьеру в Большом зале, пришел папа. После концерта он, как обычно, поднялся в артистическую и подошел к Ойстраху. Стоял с ним, они о чем-то разговаривали, а ко мне в это время тоже кто-то подошел. И вдруг смотрю — папа заплакал. Заплакал, вышел в коридор, чтобы никто не видел. Я за ним, спрашиваю, что случилось, в чем дело. А он ответил: «Жаль, что мама не слышала того, что сказал Ойстрах». Но повторить не хотел ни за что.
Кроме памяти о Давиде Федоровиче, которая всегда со мной и в жизни и в работе, у меня осталась надпись на пластинке «Гарольд в Италии». Ойстрах позвал меня записать с ним эту вещь Берлиоза. Теперь, говорит, меняемся ролями: я буду дирижером, а вы солистом. Снова замечательно работали, и он написал мне на пластинке добрые слова. [6] Надпись Ойстраха такова: «Моему чудесному Гарольду, музыканту-поэту, с искренним восхищением от любящего Давида Ойстраха».
32
Первое условие плодотворной работы дирижера с солистом — чтобы оба хорошо знали ту музыку, которую собрались играть. К сожалению, это бывает нечасто. Чаще солист гораздо лучше знает концерт, который намерен исполнять, чем дирижер — аккомпанемент, который собрался аккомпанировать. Второе важнейшее условие — чтобы дирижер в самом деле не относился к оркестровой партии концерта как к аккомпанементу. Он должен работать с ней как с симфонией. Если, в свою очередь, солист не понимает этой необходимости — дело плохо. Тогда дирижер немногого сможет добиться от оркестра и не будет солисту единомышленником. Да, формально — приоритет у солиста, и в глазах публики, особенно профанов, оркестровое сопровождение является аккомпанементом. Но относиться к нему так — значит не понять замысла автора. Тут мы касаемся важнейшей проблемы. Я думаю, главная задача исполнителя — выполнить все намерения композитора. Однажды я поделился этой мыслью с Шостаковичем, и он откликнулся с большим жаром: безусловно, он сказал, это так, очень мало кто считается с композитором. Сколько раз мне приходилось слышать заявления такого рода: дело Шостаковича было сочинить, а дальше — я хозяин или я хозяйка. Дальше, мол, исполнитель сам решает, выполнять ли ему то или другое указание автора, делать ли crescendo или diminuendo , делать ли rubato тут, а не тут. Я считаю, это в корне неверно. И то исполнение, которое будет далеко от замысла автора, лучше всего считать несостоявшимся. Мне скажут: откуда вам знать, что хотел автор? А я отвечу: существует манускрипт. Возьмите его, читайте внимательно, сравнивайте с напечатанной партитурой. Может, вы даже найдете места, где горе-библиотекарь исправил «ошибку» композитора. А не найдете — все равно: читайте ноты. Клемперера спросили: «Почему вы дирижируете по партитуре — ведь сейчас все дирижируют наизусть?» Он ответил: «Очень просто — потому что я умею ее читать». Я считаю, дирижер обязан знать партитуру наизусть. Но она должна лежать раскрытая перед тобой, потому что сколько ни дирижируешь — каждый раз находишь новые и новые прелести, новые и новые подробности, которые раньше не успевал заметить, а вот именно сейчас заметил. Воплощая эти подробности, приближаешься к цели автора. Опять-таки Клемперера спросили: «Вот вас считают лучшим исполнителем Бетховена. В чем ваш секрет?» А он говорит: «Никакого секрета. Просто я стремлюсь, чтобы в каждой целой ноте было две половинки, а в каждой половинке — ровные две четверти, а в каждой четверти чтоб были ровные восьмые. Но обязательно ровные. Вот это, наверное, не каждый умеет».
Договориться бывает трудно. Иногда — невозможно. Скажем, Рихтер и Караян, два великих музыканта, в какой-то момент поняли, что вместе играть больше не будут. Последней каплей стал, кажется, тройной концерт Бетховена с Ростроповичем и Ойстрахом. Мне рассказывал Рихтер, что они с Ойстрахом не приняли караяновской трактовки, считали, что он красуется, интересничает за счет музыки. А Ростропович с готовностью выполнял все пожелания Караяна. В результате была не работа, а подспудное сражение. Когда Караян наконец сказал, что запись окончена, Рихтер попросил сделать еще дубль. Тот ответил: «У нас нет времени, нам еще фотографироваться». Вот это возмутило Рихтера до глубины души — что фотографироваться важнее.
Я дирижировал Четвертый концерт Бетховена с Национальным оркестром Франции и одним знаменитым пианистом, очень хорошим. На все давалось только три репетиции, включая репетицию с солистом. Само собой, я работал не только с ним, но и с оркестровыми фрагментами. Солист не скрывал негодования, а в перерыве пошел жаловаться руководству: вот, мол, дирижер раньше не репетировал с оркестром, а теперь тратит на это время в моем присутствии.
Такое было невозможно ни с Ойстрахом, ни с Рихтером, ни с Гилельсом. Они не выступали как солисты с сопровождением: наоборот, требовали ансамблевой игры.
Должен сказать, из всех, с кем мне приходилось выступать за мою долгую жизнь, меньше всего было проблем с двумя людьми: Рихтером и Ойстрахом. С Гилельсом мы, к сожалению, играли слишком мало, — но и с ним проблем не возникало никогда. Никогда. Почему так? Потому что эти люди все могли. Они умели все сыграть. Если я предлагаю Ойстраху: не хотите попробовать вот таким штрихом сыграть такое-то место? — он берет скрипку и точно играет, что я предлагал. «Так?» — «Да-да, именно так!» — «Ну да, так может быть, но на мой вкус было бы лучше вот эдак». Всё, он меня убедил! Почему? Потому что доказал, что и способен сыграть иначе, и понимает иной подход. Тогда я готов уступить. Но когда я вижу, что солист просто не может сделать того, что я предлагаю, а говорит «это никуда не годится», — тогда я не уступаю. Я же вижу, что он скрывает свою неспособность. Этого я не уважаю. Один альтист мне сказал: «Так на альте не играют». — «Вы не играете. А я играю».
Есть еще одна сторона дела. Ревность музыкантов оркестра. Часто оркестрант думает, что сыграет лучше солиста, которому аккомпанирует. Иногда он прав, иногда нет. В Камерном оркестре такой проблемы не было никогда — наши солисты и музыканты испытывали друг к другу искреннее и глубокое уважение. Думаю, оркестр с нашими великими солистами объединяло одинаковое отношение к делу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: