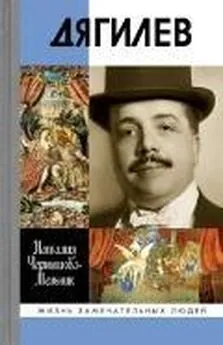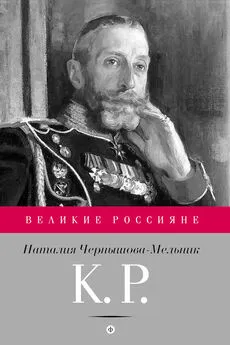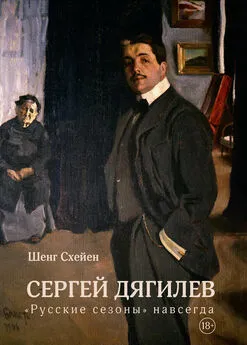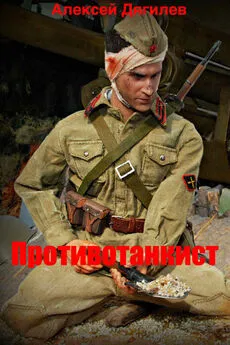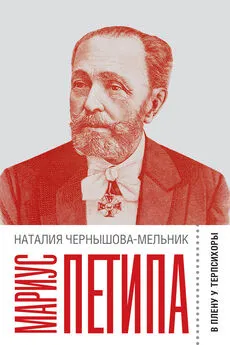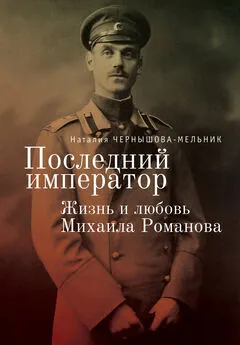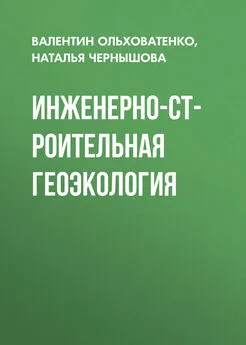Наталия Чернышова-Мельник - Дягилев
- Название:Дягилев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03417-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Чернышова-Мельник - Дягилев краткое содержание
Дягилев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот в такое общество юных столичных интеллектуалов ввел Дима Философов Сережу Дягилева, своего кузена, быстро ставшего закадычным другом. Как вел себя этот «славный малый» в среде интеллигентных юношей с изысканными манерами и увлеченностью высоким искусством? Совершенно естественно, вовсе и не пытаясь скрывать обуревавшие его чувства, которые можно выразить словами «радость жизни». Недавний провинциал в ту пору был совершенно равнодушен к литературе и живописи и даже не пытался скрыть это. Любил и знал он только музыку и, посещая кружок пару раз в неделю, порой играл с Нувелем на фортепиано в четыре руки. Иногда Сергей пел — у него был приятный и хорошо поставленный баритон, — а бывало, даже исполнял отрывки из своей юношеской оперы «Борис Годунов». Но имели место и вольности, которые «общники» отнюдь не поощряли…
Александр Бенуа вспоминает, как однажды летом, вернувшись из деревни, Сергей пришел к нему и предложил навестить «Валечку» (Нувеля), жившего тогда на даче в Парголове. Не застав его дома, молодые люди отправились на поиски. День выдался жарким, а передвигаться им приходилось по болотистой местности, прыгая с кочки на кочку. Вскоре они так устали, что решили передохнуть прямо в поле. Выбрали сухое место, растянулись на траве, и Шура Бенуа, который с юных лет чувствовал призвание к педагогике, начал «экзаменовать» Сережу. К слову сказать, такие товарищеские «экзамены» были в моде в том кругу, где вращался Бенуа. Как позже писал он в воспоминаниях, хотелось проверить, насколько этот крепыш-провинциал подходит друзьям, не слишком ли он духовно далек от них. Еще при первой встрече Бенуа выяснил, что Дягилев — музыкант, он даже «сочиняет» и собирается одновременно с лекциями в университете заняться вокалом, но его музыкальные пристрастия не вполне соответствовали взглядам Шуры и его друзей. Правда, он уже тогда превыше всего ставил Глинку, любил и Бородина, но тут же был способен восхищаться всякой «итальянщиной» и равнодушно относился к Вагнеру.
«„Серьезная беседа“ эта, — пишет Бенуа, — нарушилась неожиданно самым мальчишеским образом. Лежа на спине, я не мог следить за тем, что делает Сережа, а потому был застигнут врасплох, когда он вдруг подкрался и принялся меня тузить, вызывая на борьбу и хохоча во всё горло. Ничего подобного в нашем кружке не водилось: все мы были хорошо „воспитанные“ „маменькины сынки“ и в согласии с царившими тогда вкусами были скорее враждебно настроены в отношении всякого рода „физических упражнений“. К тому же я сообразил, что „толстый“ крепыш Сережа сильнее меня и что мне с ним не справиться. „Старший“ рисковал оказаться в весьма невыгодном и даже униженном положении. Поэтому я прибегнул к хитрости: я пронзительно закричал и стал уверять Сережу, что он мне повредил руку».
Этот случай Александр Николаевич Бенуа запомнил на всю жизнь, потому что он стал отправной точкой в его взаимоотношениях с Дягилевым. Сергей и в дальнейшем не раз «подминал» под себя Шуру, хотя и в переносном смысле. Состязательность между ними продолжалась на протяжении многих лет и придавала особую остроту и жизненность их дружбе и общей работе.
1890 год стал для Сережи Дягилева поистине судьбоносным. В ту пору он, едва оперившийся птенец, вылетевший из родного гнезда, очутился в столице, где сразу же окунулся в водоворот событий: поступление в университет, светская жизнь, новые друзья-«общники»… Но это еще не всё. Ему предстояло впервые в жизни отправиться в путешествие за границу, которое должно было стать для молодого человека, как издавна повелось в благополучных российских семьях, началом взрослой, самостоятельной жизни, неким Рубиконом, который требовалось перейти. Сергею повезло не только с маршрутом — он проходил через Австрию, Италию, Германию и Швейцарию, — но и с попутчиком — двоюродным братом Димой Философовым. Их родители решили: вдвоем ехать веселее, да и домашним волнений меньше.
По-настоящему познакомились кузены незадолго до этой поездки в Богдановском — имении Философовых в Псковской губернии, куда в конце июня Дягилев приехал погостить. Приехал — и сразу же покорил окружающих своим жизнерадостным смехом. По воспоминаниям Д. В. Философова, Сергей «внес в Богдановское „дягилевский“ элемент… быстро завоевал общие симпатии. Провоцировал маму, и она хохотала до упаду. Сережа сам гоготал, обнажая свои крепкие зубы. Любопытно было отношение папы к Сереже. Он с ним говорил мало. Наблюдал. Но каждый раз, когда Сережа „гоготал“, смеялся сам и говорил: „удивительно милый у него смех“».
Легкомысленное настроение не покидало молодых людей и во время путешествия. Дмитрий Философов писал: «…уехали мы за границу, конечно, вместе, в начале июля. Дорогой до Острова хохотали сплошь. Подъехали к железнодорожной станции, когда петербургский поезд уже стоял. В Петербурге пробыли несколько дней. Сережа остановился у дедушки Панаева, на Фурштатской… У меня было всего-навсего 500 рублей, у Сережи 1000. Начали мы наше путешествие с Варшавы».
Если даже серьезный по натуре Дима всё время хохотал, что уж говорить о Сергее, поведение которого целиком зависело от настроения? В какой-то момент он считает Диму «очень умным и интересным» и даже отмечает 17 июля 1890 года в письме мачехе: «Мы с ним во многих вещах сходимся»; по прошествии же немногим более месяца после возвращения из поездки в другом послании, одному из родственников, он пишет о возникающем порой непонимании: «…у нас с Димой характеры не очень-то хорошие — мы часами орем друг на друга, но я все-таки его полюбил…»
Пожалуй, главным различием кузенов были их непохожие интересы. Сергея больше всего привлекает музыкальный театр, и он не жалеет времени на посещение спектаклей, зачастую оставляя Диму в одиночестве любоваться архитектурными памятниками. Еще в Варшаве его приятно поражает разнообразие театральных трупп, что уж говорить о Вене! Буквально в первые дни пребывания в столице Австро-Венгрии он побывал на пяти спектаклях, и тут же, сопровождая рассказ об охватившем его волнении от встречи с настоящим искусством множеством восклицательных знаков, пишет в Пермь Елене Валерьяновне: «Мамочка, не смейся надо мной, что я всем восхищаюсь, право, это всё восхитительно».
Юного путешественника приводит в восторг всё, что несет на себе печать театральности. Если же он чувствует, что искусство излишне приближено к действительности, его интерес сразу же пропадает, уступая место раздражению. Так, например, он с отвращением отзывается как о Берлине — «страшная дыра», так и о местной опере — «сверх ожидания ужасная гадость». Совсем иное дело — Венеция, куда кузены добрались пароходом и где, как пишет Д. Философов, «снимались на гондоле». Здесь возвышенное явно преобладает над реальной жизнью. Торжество прекрасного, замечает Дягилев, было бы абсолютным, если бы не… присутствие людей, которые мешают городу продемонстрировать все его красоты. А их — не счесть! В одном из писем Елене Валерьяновне Сергей пишет, как они с Димой при чудной луне отправились кататься на гондоле: «…тут только я понял, действительно, в какое волшебное царство я попал. Ты ведь меня понимаешь! Тому, кто не был в Венеции, описать невозможно всех ее волшебств…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: