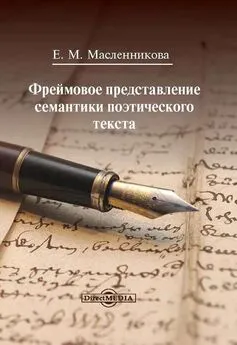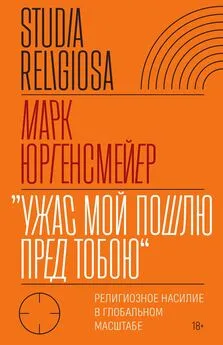Евгения Польская - Это мы, Господи, пред Тобою…
- Название:Это мы, Господи, пред Тобою…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЗАО Невинномысская городская типография
- Год:1998
- Город:Невинномысск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Польская - Это мы, Господи, пред Тобою… краткое содержание
Евгения Борисовна Польская (в девичестве Меркулова) родилась в г. Ставрополе 21 апреля 1910 г. в семье терских казаков. Ее муж Леонид Николаевич Польский (1907 г.р.) был сыном Ставропольского священника Николая Дмитриевича Польского. В 1942 г. после немецкой оккупации супруги Польские в числе многих тысяч казачьих семей уходили на запад. В 1945 г. были насильно «репатриированы» обратно в СССР, как власовцы. И хотя в боевых действиях против «союзников» они не участвовали, Евгения Борисовна получила 7 лет лагерей, ее муж — 10. К концу жизни ею были написаны воспоминания «Это мы, Господи, пред Тобою…», в которых она описывает послевоенную трагедию казачества, а вместе с ним и всего русского народа, всей России… Скончалась Евгения Польская 18 января 1997 г.
Это мы, Господи, пред Тобою… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Польская Евгения Борисовна
Это мы, Господи, пред Тобою…
Предисловие «в стол»
Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли…
О. Мандельштам«Там много такого, что человек не
должен видеть, а, если видел, то лучше ему умереть».
В. ШаламовВ художественном училище на экзамене по анатомии экзаменатор указал художнику-студенту на глазные отверстия черепа: «Что это?». Глаза», не замедлив, ответил художник. (Книга «Коровин рассказывает»).
Художник ли я, чтобы в уцелевшем костяке своих житейских воспоминаний увидеть и воскресить живую плоть ушедшего, вернуть ему колорит, цвета и запахи? Сумею ли, литературный мануфактурщик, рассказать о школе ненависти, в которую попала неволей? Может и писать не стоит? Не «ту райт», как писал Л. Успенский? Но он же заметил, что рядовые документы эпохи важнее, к примеру, записок Наполеона. И хотя надежды опубликовать это я не вижу — пишу «в стол», все-таки решаю «ту райт».
Долг, руководящий мною во второй половине жизни, требует от меня, не воплотившей свое бытие ни в чем, даже в детях, умножить статистически среднее число «несгорающих» рукописей, из которых кристаллизуется подлинная истинная история времени, а не политически конъюнктурная ложь, охватившая мир, как огромная политическая реклама.
Бездарно, стихийно прожитая жизнь требует от меня именно вот такого воплощения. Копошенье комара во время перелома эпох, миллионная доля атома — эти мои записки, в центре которых одна судьба, един угол зрения, где герой — я сама, И не встречи со знаменитостями — таких воспоминаний множество, — а мой народ, с которым сблизилась я — осколок кичливой русской интеллигенции. Именно та его часть, которая «попала под колесо истории». Такой формулой было принято в мои студенческие времена называть тех, кого изгоняли из вузов за «социальное происхождение», кого сажали в роковые тридцатые и сороковые, и пятидесятые, ломая хребет, волю и дух. И те, кто это колесо вращали, подобно рабам древнего мира, мои герои.
Жизнь моя столь богата контрастами, что и сейчас, в глубокой старости, мне кажется, я вместила несколько различных жизней. Здесь же причина, почему я осталась дилетантом во всех с детства облюбованных областях.
Но самое тесное слияние с народом — в сфере вращения пресловутого «колеса» — годы вкупе с отбросами общества, которых в моей стране совсем недавно называли «социально близкими», и коих дало мне в подруги мое государство. Правда, в этой школе ненависти я научилась и любви, и жертвенности в пору самоотверженной моей работы для людей.
Как раздражала иногда «Сибирюга»! Особенно названия населенных мест, какие-то особо «грубые» — Тырган, Юрга, Пестерево… И я противопоставляла им наши прилагательные, редко произносимые, пока была «москвичкой»: Белореченская, Отрадная, Недреманная, Прохладная… Однажды вольная врачиха Зинаида Павловна сказала мне: «Сделайте это внимательно, хорошочко». Я ее за это «хорошочко» чуть не поцеловала: так в наших южных краях говорят крестьянки (она и оказалась уроженкой Ростовской области). Так в Сибири возникло во мне чувство моей южно-российской «малой родины», утраченное было в период столичной и крымской жизни; Чувство, воскрешенное казачьими связями в период войны и владеющее мною целиком ныне, в старости.
Что это будет по жанру? Мемуары? Но здесь не будет хронологической плавности. Роман? Может быть! Судьба послала мне «сюжетную» жизнь. Тогда бы в завязку следовало положить приезд из блокированного Ленинграда моего будущего мужа в предоккупационный Ставрополь, когда отец принял его за нищего. Это могло быть завязкой романа о том, как люди переходили в категорию «второго сорта».
Однако миллионы переходили в этот сорт без причинных связей, как мы, послевоенные.
Завязка моего сюжета в грохоте танков немецкой армии в ночь на 2 августа 1942 года. В ночь, когда я осознала, что по бесчеловечным законам правительства, которое я вроде бы до этого безоговорочно принимала, перехожу во второй сорт.
Доминанта записок? — Судьба человека, брошенного на «социальное дно». О том, как несколько миллионов жили «в скобках» — лагерях, изолированные от интересов Родины, оккупированной потомками Нечаева.
Были ли у меня там, «в скобках», радости? Конечно. О них я также пишу. Главная — оказаться в обществе «себе подобных», в спасительной самоотверженности труда, и — как мне повезло — даже творческого. Не многие там получали такие радости, но мне они выпали и спасли психику и мою духовность. О них надо писать, иначе исчезнет течение времени, останется обнаженный ужас первых впечатлений. А ведь была жизнь!
Жалею ли я теперь эти утраченные, отнятые, самые продуктивные в гражданской жизни человека годы? Пожалуй, нет. Никакое доцентство, профессорство, сиявшее мне в довоенные годы, никакой социальный успех не насытили бы так моей биографии и моего гражданского сознания, как это случилось внутри «скобок» со мною. Это подтверждают многие, и сам факт появления Солженицына с его признанием, что только заключение в «скобки» (где ему, как и мне, не было так уж невыносимо плохо: не били, не умирал с голоду) подарило ему прозрение для борьбы с Голиафом самого полицейского в мире государства. Однажды и Илюша Качаев сказал мне: «Не жалею ни о чем. Мы увидели, узнали и поняли, сколько черви слепые не узнают». Я согласилась с ним, но мысленно добавила: «…и слава Богу, не сошли с ума».
По освобождении я как-то проездом шла по Москве, в начале 50-х годов еще мало изменившейся. Случайно встреченный на улице старый знакомый, вежливо сняв шляпу, на ходу поклонился и прошел мимо, будто не было этих 12 лет. Знакомые дома… переулки… этот вежливый поклон не позабывшего меня человека… А вдруг ничего не было?! Я так же иду по любимой Москве и так же встречные обтекают меня, только одета плохо. Но ведь и прежде случалось идти по улице не при всем параде… Так было или не было? Движение жизни как бы вернулось вспять. (Поэтому я включила в эти записки новеллу «Талон на порубку»).
Но все было! По улицам Москвы шла не только плохо одетая и уже не молодая женщина, но совсем другой человек — «второго сорта». И об этой все напоминало. Значит, ту райт! Значит, писать!
В первые годы по освобождении, не имея никакой возможности получить работу «на идеологическом фронте», я в Пятигорске продавала газеты. Подошел к киоску проживавший тогда в этом городе профессор Максимович, запомнивший меня по институту как заметную студентку. «А Вы что тут делаете?!» — удивился ужасно. Профессор был глух, и я написала цифру 58 (знакомый тогда номер политической статьи) и на пальцах показала решетку. Больше не подходил, и не из такта, а скорее из страха — нас, «пятьдесят восьмых», долго еще боялись и чурались. Первые годы мы с мужем вращались только в обществе «себе подобных».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: