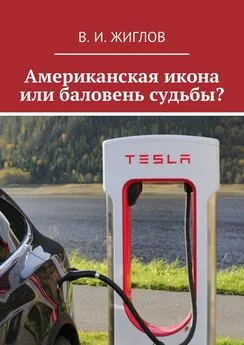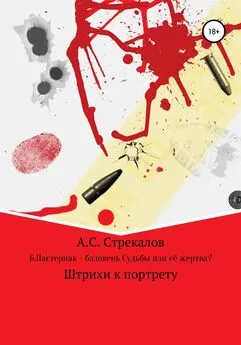Федор Раззаков - Андрей Миронов: баловень судьбы
- Название:Андрей Миронов: баловень судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-699-09612-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Раззаков - Андрей Миронов: баловень судьбы краткое содержание
Актер милостью Божьей...
Он играл всегда: на сцене своего родного, никогда не предаваемого им Театра сатиры, на съемочных площадках кинофильмов, исполняя свои песни, он не переставал играть и в жизни, которой Господь отпустил ему до обидного мало лет. Миронов и умер на сцене, играя роль, наиболее полно раскрывающую суть его таланта, – Фигаро в бессмертной комедии Бомарше.
Он прожил слишком много человеческих жизней, не особо заботясь о своей собственной... Миронов был из плеяды тех великих русских актеров, для кого талант и профессионализм были слиты воедино. Может быть, поэтому не чувствовалось фальши ни в одной из сыгранных им ролей. И может быть, поэтому так важно нам сейчас проследить шаг за шагом, день за днем все этапы пути этого Артиста в самом высоком значении слова...
Андрей Миронов: баловень судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Фирменно» изящный, раскованный, элегантный Миронов предстал перед нами неловким, закомплексованным, заторможенным, вечно не знающим, куда девать руки, вечно стесняющимся своей громоздкости («слон в посудной лавке»), своего грубо вылепленного лица («я понимаю, что я некрасив, то есть лицо у меня неприятное…»). Его Фарятьев прямая противоположность своим мечтаниям – абсолютно антиромантичная внешность, прилизанные, зачесанные набок волосы, ресницы альбиноса, безбровое лицо с всегда обыденным, стертым выражением. Серый пиджак, серая рубашка, серый галстук в казенную полоску. Не садится, а присаживается, помещает себя на стул, сидит на краю, и рука врастопырку неловко опирается на сиденье. Для него любое движение тягостно и трудно, он не привык быть «в обществе». И сватовство ему тоже мучительно – но еще мучительнее одиночество вдали от любимой, потому что любить он умеет бескорыстно и самоотреченно.
Эта как бы бесцветная личность является нам не просто на «бытовом уровне» – как документальный слепок с натуры. Миронову изначально чуждо перевоплощение как конечная цель – его пребывание в роли всегда двойственно, наполнено мерцающим смыслом, каждая краска таит в себе для нас некий вопрос – отчего так? Просто ли серость перед нами, или эта серость вынужденная, качество приобретенное, своего рода уродство, горб, наращенный на человеке искаженной социальной средой? Да, конечно, мы видим Фарятьева глазами Шуры, замученной вечным трудом и неустроенностью стареющей учительницы музыки. Она тоже безнадежно влюблена, но в некоего Бетхудова, который так и не появится на экране, но о котором все постоянно говорят, и это, по рассказам, полный антипод Фарятьеву – уверенно идущий по жизни, удачливый, умеющий и одеваться и жить. Мы угадываем в нем ясный социальный тип – приспособленца и циника, одного из предприимчивых хозяев жизни в те застойные времена…
Именно Миронов с его способностью к максимальному интеллектуальному наполнению роли сообщает фильму очень ясные социальные параметры, делает его остропроблемным. Мы понимаем, что перед нами один из тех «лишних людей», кто именно в силу своей талантливости, неистребимо творческой закваски входит в постоянное противоречие с канонизированной серостью застойного бытия, он из тех, кто не востребован временем и потому не имел возможности самореализоваться в жизни…»
Судя по всему, Миронов премьеру фильма не видел – как обычно был занят в спектаклях: 25-го это был «Ревизор», 26-го – «Трехгрошовая опера». Однако он не расстроился, поскольку успел увидеть картину еще два года назад на «Ленфильме» – сразу после того, как она была смонтирована. И ролью своей в ней остался доволен.
27 января Миронов играл на Малой сцене Театра на Малой Бронной в «Продолжении Дон Жуана». По давно заведенному графику, спектакль игрался в десять вечера.
29 января Миронов играл в «Сатире» «Горе от ума», 30-го – «Женитьбу Фигаро».
Февраль начался с «Трехгрошовой оперы» (1-го). Затем шли: 3-го – «Ревизор», 6-го – «Горе от ума», 9-го – «Трехгрошовая опера». Помимо спектаклей Миронов находил время и для других мероприятий. В частности, он готовил к выпуску на «Мелодии» свой диск-гигант « Ну чем мы не пара?». Песня, давшая название альбому, принадлежала перу его давнего знакомого композитора Евгения Крылатова и поэта Михаила Пляцковского. Последний так вспоминает о своей работе с Мироновым:
«…У меня праздник. Сегодня в Доме звукозаписи на улице Качалова, в одной из его студий, должна обрести жизнь наша с композитором Евгением Крылатовым новая шуточная песня „Ну чем мы не пара?“. Но праздник прежде всего от предвкушения встречи с исполнителем песни Андреем Мироновым, милым, обаятельным, жизнерадостным человеком и замечательным актером…
На запись Андрей немного опоздал. Извинился: репетиция. Согласовал с дирижером темп, и началась работа. Через стекло аппаратной, сидя рядом со звукорежиссером возле пульта, наблюдаю за Андреем, восхищаясь тем, как беспощадно он отвергает уже записанные варианты песни.
– Пока не то. Не получается. Чего-то не хватает. Надо поискать…
И напевал новый вариант. При этом жестикулировал у микрофона, улыбался и словно бы исполнял роль, находясь перед съемочной камерой – в кадре. Ему было жарко, он раскраснелся, глаза, чуть грустные и иронично-насмешливые его глаза, слегка поблескивали от возбуждения.
– Может, хватит? По-моему, все нормально, – сказал ему, нажав кнопку на пульте, композитор.
– Концовка не выходит. Ну ничего. Сейчас что-нибудь придумаю. Давайте сделаем еще один дубль, – попросил Андрей.
Спорить с ним бесполезно. Это мы знаем. Пока сам не будет удовлетворен собой, от микрофона не отойдет. Не может позволить себе даже малейшей фальши, малейшей неточности.
– Извини, старик, если чуток изменю твой припев, – обращается он ко мне. – Ну буквально пару слов… Для дела надо, для образа… Кажется, я в него уже вошел.
Припев у песни, поскольку она с юмором, такой:
О любви все твержу тебе заново,
Но когда зря твердить надоест,
Так и знай, я уеду в Иваново,
А Иваново – город невест.
Андрей и вправду, как говорится, вошел в роль героя песни. У нас на глазах происходит чудо: песня превращается в маленькую пьесу, в маленький его, мироновский, спектакль.
Интонации уже несколько иные, более озорные, что ли, даже какие-то залихватские. А в самом конце песни мы вдруг действительно слышим легкую интерпретацию, но такую характерную для него. Он, улыбаясь и подмигивая мне, поет:
Если что… я уехал в Иваново,
А Иваново – город невест.
Запись завершена. Андрей, еще слегка взбудораженный и неостывший, входит к нам в аппаратную.
– Дайте, пожалуйста, послушать последний дубль, – обращается он к звукорежиссеру.
Слушает. Смотрит выжидающе на нас с Крылатовым. Крылатов поднимает большой палец. Я говорю:
– Полный порядок!
– С концовкой согласен? – спрашивает Андрей деликатно, уважая мое авторское самолюбие.
Я обнимаю его за плечи. В этом он весь: советуется, но делает по-своему, как считает нужным для пользы дела. Песня для него не хобби: к этой работе он относится так же серьезно, как ко всему, что делает. Свои песни он не поет, он их играет. Я сказал «свои песни», имея в виду, что они действительно его, от него идущие к людям, благодаря ему заслужившие общее внимание и становящиеся популярными, любимыми, известными именно потому, что первым исполнил их он, дал им жизнь. Так случилось и с нашей песней «Ну чем мы не пара?»…»
Но вернемся в февраль 82-го.
12 февраля по ТВ показали очередной фильм с участием Миронова – незамысловатую комедию Наума Бирмана « Шаг навстречу»(21.35), где наш герой играл врача-стоматолога Маркела. Сам Миронов в те дни был далеко от Москвы – снимался в Астрахани в «Лапшине».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
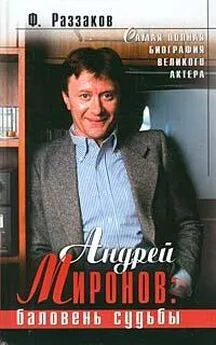

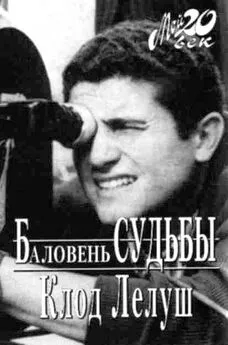


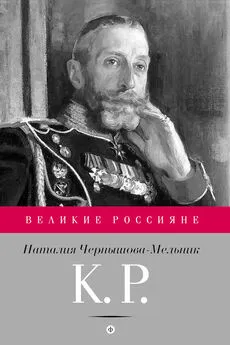
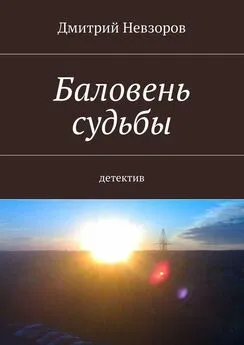
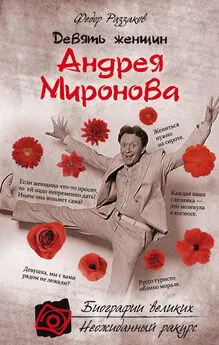
![Николай Васильев - Баловень судьбы [СИ]](/books/1142668/nikolaj-vasilev-baloven-sudby-si.webp)