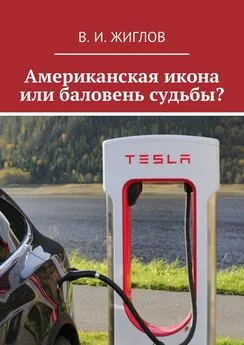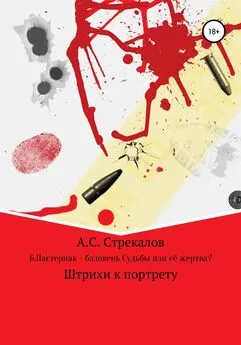Федор Раззаков - Андрей Миронов: баловень судьбы
- Название:Андрей Миронов: баловень судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-699-09612-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Раззаков - Андрей Миронов: баловень судьбы краткое содержание
Актер милостью Божьей...
Он играл всегда: на сцене своего родного, никогда не предаваемого им Театра сатиры, на съемочных площадках кинофильмов, исполняя свои песни, он не переставал играть и в жизни, которой Господь отпустил ему до обидного мало лет. Миронов и умер на сцене, играя роль, наиболее полно раскрывающую суть его таланта, – Фигаро в бессмертной комедии Бомарше.
Он прожил слишком много человеческих жизней, не особо заботясь о своей собственной... Миронов был из плеяды тех великих русских актеров, для кого талант и профессионализм были слиты воедино. Может быть, поэтому не чувствовалось фальши ни в одной из сыгранных им ролей. И может быть, поэтому так важно нам сейчас проследить шаг за шагом, день за днем все этапы пути этого Артиста в самом высоком значении слова...
Андрей Миронов: баловень судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Первая рецензия на премьеру появилась в «Вечерней Москве». Критик Ю. Дмитриев так писал об игре Миронова: «В этом спектакле не звучат пламенные монологи. В герое Миронова нет ничего от романтизма. Это молодой человек, понявший, что проповедь рабства, служение не делу, а лицам отвратительна… При этом актеру совсем не обязательно становиться на котурны. Миронов этого и не делает, но он достаточно убедителен в своей ненависти к фамусовской Москве и в любви к Софье…»
За 50 лет существования Советской власти театр неоднократно обращался к бессмертной пьесе Грибоедова. Последним обращением, всколыхнувшим театральную общественность, была постановка «Горе от ума» в Ленинградском БДТ. На волне хрущевской оттепели Георгий Товстоногов поставил спектакль, где отчетливо звучал мотив расставания с романтическими иллюзиями (этот же мотив витал тогда и в обществе). Чацкого в том спектакле играл Сергей Юрский, который именно после этой роли проснулся знаменитым.
Плучек ставил «Горе от ума» уже иначе. Миронов играл Чацкого куда более спокойно (не становился на котурны), но идея была та же – умный человек в России по-прежнему не в чести. Это особенно было заметно в дни премьеры спектакля – вся советская пресса взахлеб писала о предстоящем 19 декабря 70-летии «дорогого Леонида Ильича». Думается, и сам Плучек не случайно выпустил спектакль аккурат за неделю до юбилея.
Много позже критик Л. Фрейдкина так оценивала идею этой постановки: «Играя Чацкого, Андрей Миронов не надевал очки, не подбирал особый грим, чтобы походить на Грибоедова. Он не отождествлял Чацкого с Грибоедовым, как делают иногда в школьных сочинениях. В исполнении роли раскрывалась вся якобы хрестоматийная, но до конца не разгаданная пьеса и сам автор с его надеждами, превратностями изменчивой судьбы, трагическими прозрениями…
Пьеса, втиснутая в фамусовский особняк, в события лишь одного дня, вмещала проблемы века – еще не остывший страх перед якобинской диктатурой, расколы и безверие в Петербурге, разжалование в солдаты, тайные собрания и даже Бейрона (Байрона), погибшего в Греции в год окончания «Горе от ума».
Актер интеллектуального склада, Андрей Миронов, изучив роль, ознакомившись с 1820-ми годами, выходил на сцену, осененный прочитанным, узнанным, продуманным. Так мне, по крайней мере, казалось.
Чацкий неотрывно наблюдал за всеми окружающими, ужасаясь пустоте, суетности их существования. Сам он чужд суете. Популярные, хлесткие реплики актер произносил без чрезмерных подчеркиваний. «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Реплику завершает точка, а не восклицательный знак…
Не забыть, как Чацкий слушал разглагольствования Фамусова и Скалозуба – домашних, казарменных готтентотов. Их духовная нищета удручала. Взрываясь обличительным монологом, актер не ударял в набат, не бил тревогу, а тревожно размышлял…
На сцене Чацкий делил заботы, сомнения, надежды лучших людей из дворян. Мог ли при этом Андрей Миронов уйти от наших трудных, сложных 70-х годов? От наших Фамусовых и Молчалиных с их страстью к карьере, выгоде, стяжательству? Скверное, к сожалению, уцелело. Банкеты, награды, «обеды, ужины и танцы» кое-кому зажимали рты. Бессловесные были в большем почете, нежели правдолюбцы.
«Я ставил спектакль, опьяняясь гениальностью Грибоедова», – рассказывал В. Н. Плучек. Стародавнее театр воскрешал с точно угаданным чувством стиля, без скучной архаики и без нарочитого заострения «актуальности». Вековечный этический смысл «Горя от ума» постигался без назойливых намеков и сопоставлений…»
Роль Чацкого стала для Миронова в каком-то роде переломной. Долгое время артист воспринимался публикой исключительно как комедийный актер, как баловень судьбы. Однако сам Миронов этим типажом сильно тяготился и делал все возможное, чтобы его разрушить. В театре это началось в конце 60-х – с Жадова в «Доходном месте» и Вишневского в «У времени в плену». Этот процесс обрел свои еще более четкие очертания в 75-м, когда Миронов сыграл на телевидении две роли из разряда классических – Грушницкого в «Страницах журнала Печорина» и Вязовнина в «Возвращении». Через год к этому списку добавился и Чацкий. Как пишет А. Вислова:
«Ко дню премьеры „Горе от ума“ в Миронове произошел необратимый перелом. Прежде веселого, неунывающего и дерзкого Миронова мы уже не увидим никогда, лишь его отблески будут иногда вспыхивать то в однй, то в другой роли. Отчасти этот перелом объяснялся естественным переходом от молодости к зрелости, но в гораздо большей степени сменой общественных настроений, системы ценностей, а с ней и системы эстетических координат. Искусство входило в берега жесткого языка и вместе с тем подчеркнутой неустроенности, неопределенности, в известной мере неприкаянности. Что-то необратимо изменилось к тому времени во всей нашей жизни. Бескорыстные высокие идеалы „шестидесятников“ исчезли навсегда в тумане меркантильности „семидесятников“ и еще более корыстных „восьмидесятников“. То, что историк Михаил Гефтер определил как „третий момент застоя“, при котором мы с невероятной быстротой стали превращаться в общество потребителей. В данном общественном климате позиция борца мало что меняла. Да и, повторяю, Миронов не был борцом по своей природе…»
13 декабря Миронов играл в «Маленьких комедиях…», 15-го – в «Клопе».
В те самые часы, когда в «Сатире» шел последний спектакль, по ТВ, в 19.55, началась премьера водевиля Леонида Квинихидзе « Небесные ласточки», где Андрей Миронов сыграл роль композитора Селестена.
До конца года Миронов сыграл еще в четырех спектаклях. 20 декабря это были «Маленькие комедии…», 26-го – «Таблетку под язык», 27-го – «Женитьба Фигаро», 29-го – «У времени в плену».
1977
1977 годначался с « 12 стульев»: 2 января ТВ устроило премьеру первых двух серий телефильма Марка Захарова. Время показа было выбрано самое удачное: 18.35–21.00. Самое удивительное, что Миронов мог бы эту премьеру не увидеть, поскольку у них с Голубкиной… не было телевизора. Но помог случай: в те дни они чуть ли не ежедневно бывали в гостях у своих многочисленных друзей, где такой предмет, как телевизор, был непременным атрибутом домашнего интерьера. Две заключительные серии фильма Миронов тоже смотрел «на выезде» – их показали в выходные 8–9 января (в 19.40). Скажем прямо, многочисленную аудиторию фильм разочаровал. Во-первых, он был полностью решен в театральной манере (снимался исключительно в павильонах), во-вторых, в нем не было той эксцентрики, которая так пленили публику в экранизации бессмертного романа, предпринятой шестью годами ранее Леонидом Гайдаем. И, наконец, в-третьих – Миронов играл Бендера-философа, а зрителям хотелось увидеть Бендера-проныру. Единственно, что покоряло в этой телеверсии, – замечательная музыка и песни Геннадия Гладкова и Юлия Кима в исполнении Миронова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
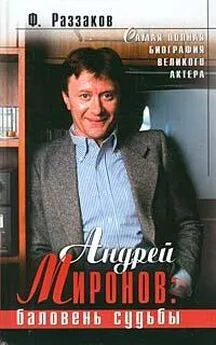

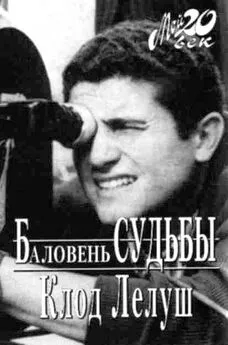


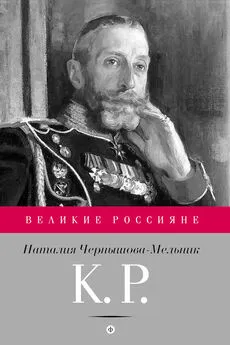
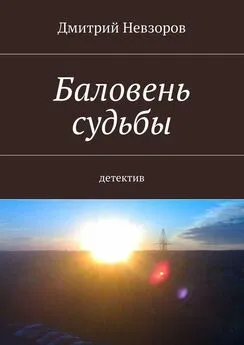
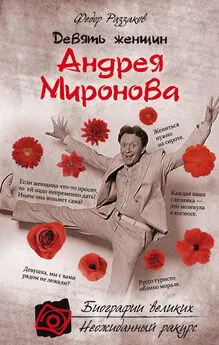
![Николай Васильев - Баловень судьбы [СИ]](/books/1142668/nikolaj-vasilev-baloven-sudby-si.webp)