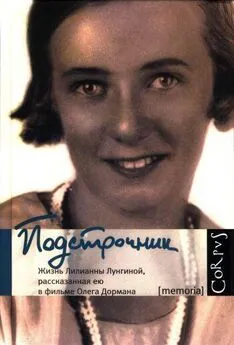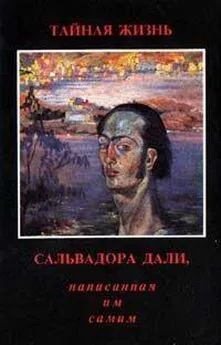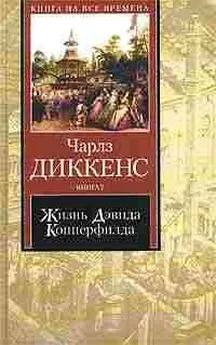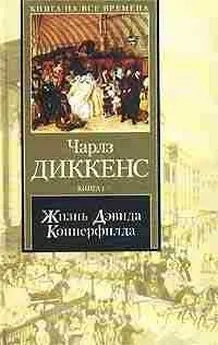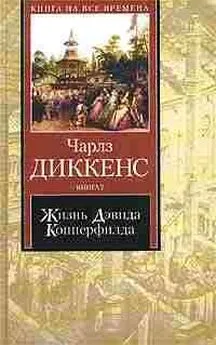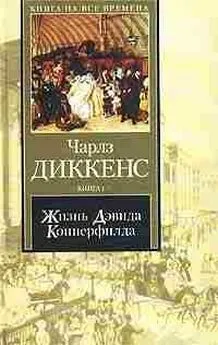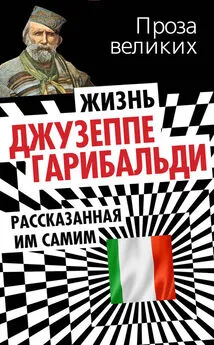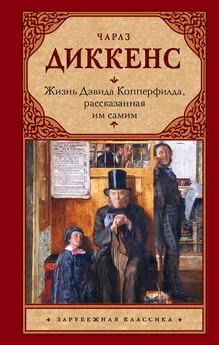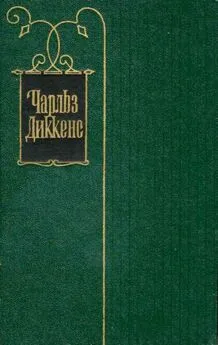Олег Дорман - Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана
- Название:Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель, Corpus
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-24764-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Дорман - Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана краткое содержание
Жизнь этой удивительной женщины глубоко выразила двадцатый век. В ее захватывающем устном романе соединились хроника драматической эпохи и исповедальный рассказ о жизни души. М. Цветаева, В. Некрасов, Д. Самойлов, А. Твардовский, А. Солженицын, В. Шаламов, Е. Евтушенко, Н. Хрущев, А. Синявский, И. Бродский, А. Линдгрен — вот лишь некоторые, самые известные герои ее повествования, далекие и близкие спутники ее жизни, которую она согласилась рассказать перед камерой в документальном фильме Олега Дормана.
Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
За снятием Никиты не последовало никаких репрессий. Его не посадили, не сослали в Сибирь, даже в прессе не унижали. Он стал простым пенсионером и жил то в московской квартире, то на даче, которую у него не отобрали. То есть не было обычного кровавого сведения счетов. Это, конечно, изумило либеральную интеллигенцию. А для широкого народа Брежнев с его импозантной внешностью, неспешной речью, тяжеловесный, спокойный, больше соответствовал образу вождя, и о нем стали говорить «хозяин будет». Быстро выяснилось, что он любит машины, сам водит, и на большой скорости. Это только прибавило ему престижа: в то время иметь машину было вершиной счастья. Эта страсть делала его таким же человеком, как другие.
И мы подумали, что есть какой-то шанс, что однажды мы станем более или менее нормальной страной. И может быть, немного поживем спокойно. Среди моих близких только Сима оставался скептиком. Он долго рассматривал Брежнева по телевизору и потом сказал: «Манеры провинциального актера, который старается придать себе важности. Бульдожья морда, пустой взгляд, совершенно механическая речь. Послушай, с каким трудом он выговаривает простейшие слова. Нет-нет, ждать нечего».
Но жить все-таки стало легче. В магазинах было мясо, семга и икра по разумным ценам, а зимой мы даже покупали апельсины и бананы. Легче стало одеваться. Синтетика тогда была в большой моде, нейлон, дакрон и прочее. Продавалась импортная мебель — из Венгрии, ковры из Чехословакии, Финляндии. Люди почувствовали вкус к комфорту, начались организованные поездки за границу — в основном в страны народной демократии, но и в Скандинавские страны, в Италию, Францию, Англию. Тем самым приоткрылось окошко в другой мир. Все стремились повидаться с вернувшимися, даже от похода в театр отказывались, лишь бы захватить человека тепленьким, и требовали от него подробнейшего рассказа. Именно конкретные подробности были интереснее всего: что за гостиница, какие бумаги надо заполнять, какая мебель в номере, что ели, что в магазинах, что носят прохожие.
Был также бесспорный культурный подъем, начавшийся при Хрущеве. Эстафету от поэзии принял молодой театр. Олег Ефремов, которого уже немного знали после успешного актерского дебюта в детском спектакле «Конек-Горбунок» — его тогда посмотрели и многие взрослые, — решил воспользоваться оттепелью и создать свой театр. К всеобщему удивлению, родился «Современник». Обращался он главным образом к тем, кто хотел говорить и слышать правду. Там была молодая труппа, связанная и дружбой, и общей целью: воскресить театр, сохраняя верность системе Станиславского. Они не ставили под вопрос советские ценности, а просто хотели приблизить театральное искусство к реальности — так же, как авторы прозы, публиковавшейся в «Новом мире», как поэты новой волны. Успех был необычайный. Каждая премьера становилась событием и означала победу над цензурой. Но иногда побеждала цензура. Пьесу Галича «Матросская тишина» запретили после генеральной репетиции, потому что в ней рассказывалась история еврейской семьи. Но «Современнику» удалось преодолеть это испытание, и в течение всех шестидесятых годов он оставался одним из редких мест, куда нам всегда хотелось пойти.
В тот же период Юрий Любимов, который был тогда актером Вахтанговского театра и преподавал в Щукинском училище, поставил со своими учениками пьесу Брехта «Добрый человек из Сезуана». Спектакль шел без декораций — только столы и стулья, в репетиционном зале. Туда хлынула вся артистическая Москва, поражаясь, как можно создать такое волшебство столь малыми средствами. Потом Любимову удалось получить зал бывшего кинотеатра на Таганской площади — и открылся знаменитый Театр на Таганке, который вскоре стал самым популярным в Москве.
Любимов, в отличие от Ефремова, очень интересовался обновлением театральной формы, отрицал систему Станиславского и наивный реализм. Он ставил спектакли по поэзии Пушкина, Маяковского, Вознесенского, молодых поэтов, погибших на войне, — был такой спектакль «Павшие и живые», — инсценировал повести и романы и каждый раз искал ключевую метафору. Это был, я бы сказала, театр воспаленной совести, который отражал все недуги общества. Любимов работал всегда на последней грани возможного, ему приходилось еще больше, чем «Современнику», бороться с цензурой. Ставя классику, он намекал на контекст, в котором мы жили. Это было особенно очевидно, когда он поставил «Гамлета» с Высоцким. Весь зал был заодно с принцем датским в его борьбе с прогнившим королевским двором. Любимов — человек эмоциональный, страстный, театр — его жизнь, он присутствовал на каждом спектакле — у него в зале было определенное место, с которого он фонариком подавал сигналы актерам, регулируя ритм игры, — и в работе был абсолютно непреклонен, отказываясь идти на малейшие уступки чиновникам из управления культуры. И люди уходили с его спектаклей как бы очищенными. Наверное, поэтому так дорого стоили билеты на черном рынке.
У Эфроса даже не было своего зала, он работал в театре на Малой Бронной, но главный режиссер в конце концов стал позволять ему делать то, что он хотел. Все его спектакли, особенно постановки классики — он ставил Шекспира, Гоголя, Тургенева, Достоевского, — были совершенны. И разумеется, театральная номенклатура этого совершенства ему не прощала, воспринимая это как личное оскорбление.
Все большую значимость обретала другая, неофициальная культура. На площади Маяковского был установлен пьедестал, годами ждавший, когда на него поставят памятник. И вот часам к шести вечера к этому пьедесталу будущего памятника Маяковскому стекалась молодежь, чтобы послушать стихи Цветаевой и Пастернака, которые ребята читали по очереди, а главное — почитать свои собственные стихи и послушать, что пишут другие. Вскоре эти молодые поэты — Вадим Делоне, Леонид Губанов и многие другие, никогда не опубликовавшие ни строчки, — образовали своеобразную ассоциацию, которую они назвали СМОГ (Самое молодое общество гениев). В манифесте, который они бесстрашно читали на площади, они уже высказывали определенную политическую позицию, выступая против советского образа жизни, к примеру — против формализма и ограниченности комсомола, и требовали полной свободы слова и поведения. Толпа на площади Маяковского день ото дня росла, завязывались дискуссии. Каждый третий был гэбэшником, но все это тем не менее продлилось какое-то время. Потом начали разгонять толпу под тем предлогом, что такое скопление людей мешает уличному движению. Некоторых увозили на машинах, допрашивали, отпускали, потом иногда судили за тунеядство и высылали из Москвы. От СМОГа избавились без труда, но все же это семечко сумело прорасти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: