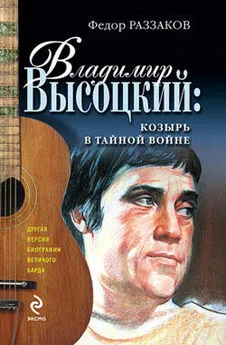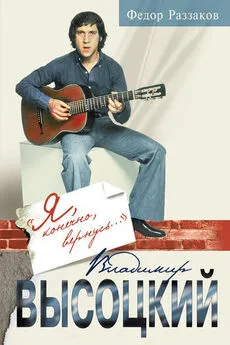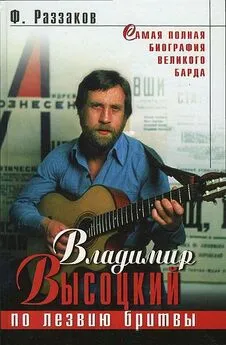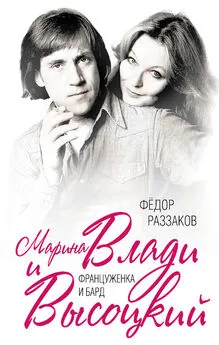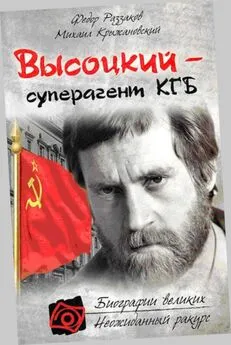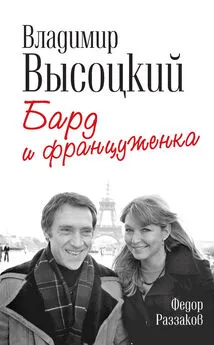Федор Раззаков - Владимир Высоцкий: козырь в тайной войне
- Название:Владимир Высоцкий: козырь в тайной войне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:978-5-699-36352-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Раззаков - Владимир Высоцкий: козырь в тайной войне краткое содержание
Владимир Высоцкий: козырь в тайной войне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Судя по всему, собирать досье («дело объекта» или «объективку») на Высоцкого в КГБ начали в 1963— 1964 годах. Во-первых, именно тогда Хрущев особенно сильно осерчал на либеральную интеллигенцию (после выступления М. Ромма в ВТО и выставки в Манеже — все события произошли в ноябре-декабре 62-го), во-вторых — прекратились сокращения в КГБ (до этого в течение нескольких лет было уволено 1300 сотрудников), и даже начался набор туда новых сотрудников, которые должны были закрыть возникшие бреши на некоторых направлениях, в том числе и по линии надзора за творческой интеллигенцией. Коллегия КГБ была увеличена на два человека, были объединены ранее разъединенные Управления по Москве и Московской области. Кстати, видимо, именно в последнем и начали собирать досье на Высоцкого, а не в Центре, в компетенции которого были более значимые фигуры. Отметим, что в январе 1962 годановым начальником УКГБ по Москве и области был назначен Михаил Светличный, который вскоре сыграет в судьбе Высоцкого определенную роль (о чем ниже).
Из-за увеличения объема текущей работы в ноябре 1963 годаиз ведения председателя КГБ Владимира Семичастного будет изъято 2-е Главное управление (контрразведка) и передано сначала под наблюдение его 1-го заместителя Николая Захарова, а чуть позже (в мае 64-го) — заместителя председателя КГБ Сергея Банникова (он же в июнетого же года стал еще и начальником 2-го главка). То есть именно эти люди напрямую курировали надзор за творческой интеллигенцией, в том числе напрямую были причастны и к «делу Синявского и Даниэля».
Возвращаясь непосредственно к Высоцкому, скажем, что поволноваться ему тогда пришлось изрядно. На почве этих волнений он вновь срывается и подводит театр — вместе с артистом «Таганки» Кошманом они не приходят на спектакль. 3 октябряместком обсуждает их безобразное поведение и выносит им «строгача». Кошман вроде одумался, а вот Высоцкий нет: спустя несколько дней он самовольно покидает Москву и уезжает на съемки: сначала в «Стряпуху», которая снимается уже в селе Красногвардейское, а потом в Гродно, на съемки «Я родом из детства». О съемках в последнем фильме вспоминают очевидцы.
Р. Шаталова: «Остался в памяти Володин приезд в начале октябряна съемки в Гродно. Встречаем его на перроне и предлагаем ехать прямо на съемочную площадку. Съемка уже идет, сцена большая — нужно успеть снять до наступления темноты. Все это быстро выкладываем ему. Но Володя взмолился: «Братцы, мне нужно часа два поспать. Ехал в купе с военными — всю ночь пели и пили». Мы мягко напираем: «Володечка, как же так, мы же по телефону говорили, что будет напряженка. Актрисе Добронравовой надо уезжать в Ленинград на спектакль». А он с юморком: «Девчонки, вы со мной не очень-то… Я в Москве теперь знаменитый». Пришлось отвезти его в гостиницу «Неман». Через пару часов идем в номер будить, захватив еду и игровой костюм. Заходим к нему и видим: Володя лежит одетый на кровати, ноги на приставленном стуле, руки скрещены на груди. Подумалось, что солдат прикорнул перед боем.
В Гродно Володя приехал легко одетый, в одной рубашке, говорил, что прямо со спектакля на поезд. А на следующий день резко похолодало. Володю одели в съемочный реквизит. Есть фотографии, где Высоцкий одет в кофту Княжинского или в съемочную куртку. А как только Володя увидел на мне свитер, который я связала для брата, тут же стал упрашивать продать ему. «А с братом, мол, в Минске сочтемся». — «Хорошо, — говорю, — только гони 10 рублей за нитки». Через некоторое время смотрю журнал «Театр» со снимком Высоцкого в роли Гамлета. Высоцкий там в черном свитере ручной вязки, похожем на мой…»
А. Грибова: «В Гродно были очень хорошие съемки (шли с 22 сентября по 28 октября). Снимали серьезную сцену на вокзале, и Володя нервничал. Но сняли хорошо. Под конец съемки Высоцкого «загрузили» немножечко. Вечером Володя пришел в ресторан в военном костюме — он его «обживал» и ходил в нем постоянно, то есть как был на съемочной площадке, так и пришел. Он присел в ресторане за наш столик — я была с Ларисой Фадеевой. Ожидая свой заказ, Володя вдруг стал снимать с себя грим, то есть шрам на лице. Это было ужасно, так как в этот день мы все были на нервах после трудной съемки. Короче, я вспылила и убежала, бросив обед. Володя расстроился еще больше. Утром пришел извиняться. А он был легкораним, особенно в тот период.
В Гродно случилась интересная история с сапогами. У меня из реквизита была одна пара сапог на троих актеров: Ташкова, Высоцкого и еще кого-то. Они все снимались в разных эпизодах, поэтому сапог хватало. После съемки Володя уехал навеселе в гостиницу «Неман». Утром привозят его на съемку, а он в гимнастерке и босой… Я ему говорю: «Где сапоги?». А он: «Не знаю…» — «Убью. Здесь, на месте». Съемка срывается. Сорокового размера больше нет. Я вся в слезах. Кто-то из ребят хватает машину и едет к нему в номер. Высоцкий в этот момент сидит в гриме. Сапоги находят на антресолях — он умудрился их туда зашвырнуть. Привозят их, а он: «Надо же, оказывается, я был в сапогах». Позже Ташков эти сапоги прорубил, когда снимали рубку дров в Ялте…»
По возвращении Высоцкого в Москву, 15 октября, собирается новое собрание, где вопрос уже ставится ребром: выгнать его из театра. Тот клятвенно обещает исправиться и даже заявляет, что готов лечь в больницу на лечение, но только после того, как сыграет 18 ноябряпремьеру «Павших и живых» и уладит еще ряд важных дел. Здесь стоит более подробно рассказать об этом спектакле, поскольку вокруг него тогда разгорелась настоящая баталия, опять же связанная с «еврейской темой».
Спектакль являл собой поэтическое представление на тему Великой Отечественной войны и состоял из стихов поэтов, которые либо сами воевали (М. Кульчицкий, Б. Слуцкий, Э. Казакевич, П. Коган, В. Багрицкий, Н. Майоров и др.), либо писали о войне в тылу (Б. Пастернак, О. Бергольц и др.). Подбор поэтов был составлен Юрием Любимовым таким образом, что это были сплошь неофициозные авторы — те, чья поэзия реже всего звучала в дни официальных торжеств (как говорили сами либералы: «не трескучая поэзия»). Однако неприятие высоких цензоров вызвало главным образом не это, а то, что большинство этих авторов были евреями: Слуцкий, Коган, Пастернак, Багрицкий, Казакевич (в их число по ошибке был зачислен и Кульчицкий). И в этом неприятии основным фактором выступал не столько антисемитизм кого-то из цензоров (хотя нельзя утверждать, что таковых среди них не было), сколько политическая составляющая: желание державников дать понять мировому сообществу (главным образом США и Израилю), какое место в СССР занимает еврейская элита — не главное.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: