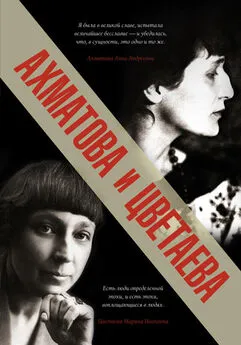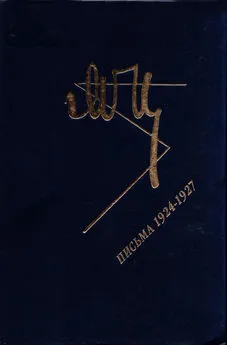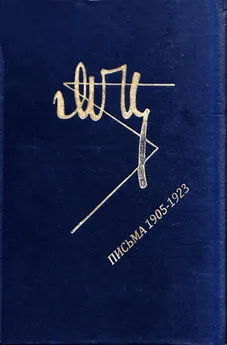Марина Цветаева - Воспоминания о Марине Цветаевой
- Название:Воспоминания о Марине Цветаевой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Цветаева - Воспоминания о Марине Цветаевой краткое содержание
Воспоминания о Марине Цветаевой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Потом заперлась у себя и несколько дней кряду писала стихи о Блоке.
На углу Тверской и Большого Чернышевского переулка (нынешней улицы Станкевича) в зеркальном помещении бывшей кондитерской собирались члены литературного объединения «Кузница». В один из траурных блоковских дней я зашел в этот переполненный кондитерский пестрый зал. В глубине зала на кафедре стоял популярный исследователь западноевропейских литератур профессор Петр Семенович Коган. Он говорил о Блоке. И вдруг заплакал навзрыд, как ребенок.
Вечером в петухивной я рассказал Цветаевой о плачущем Когане. Она удивилась: «Плакал на людях? Публично?»
Должно быть, ей представлялось, что если уж плакать, то только наедине с собой.
Цветаева подумывала о поездке в Прагу — там жил ее муж, отец маленькой Али, Сергей Эфрон.
Визы желающим уехать за границу давались довольно часто. Бывал у Цветаевой режиссер Чабров.. [131] Чабров Алексей Александрович (наст. Фам. Подгаецкий; ок. 1888 — ок. 1935) — актер и музыкант, друг композитора А. Н. Скрябина. Принадлежал к теософским кругам. В эмиграции принял католичество (1927) и стал священником (1931). Цветаева посвятила ему поэму-сказку «Переулочки» (1922) и стихотворение «Не ревновать и не клясть» (1922).
Он постоянно расписывал, как его ждет Париж. И я уже начинал верить, что Парижу и впрямь не терпится встретиться с Чабровым. Чабров вскоре уехал, а театральный Париж так и не был им осчастливлен. Во Франции он принял католицизм и стал священником, по словам Али — «беднейшего прихода на Корсике».
Аля рассказывает о Чаброве:
«В 30-е годы разыскал нас, приехал в Париж, раза 2–3 приходил в бедной потрепанной сутане, с тонзурой на темечке и… все такой же».
Цветаева подала в Наркоминдел ходатайство о разрешении и ей с дочерью выехать к мужу в Прагу. Она старалась как можно больше оставить мне на память о нашей дружбе. Уже давно была подарена книжка стихов с надписью, в которую она вложила все свое доброе и великодушное отношение ко мне: «Поэту и другу». Сама сшила и заполнила своими стихами тетрадь. И, даря ее, в верхнем углу серой обложки на сургуче оттиснула печатку своего старинного перстня. Трехмачтовое судно еще и сегодня видно на уже растрескавшемся и, увы, частично обсыпавшемся сургуче. В 1965 году дочь Марины Ивановны сообщила мне, что перстень этот с печаткой уцелел. Он дошел до нее «невероятными путями», весь истерт, тыльная сторона его истончилась, от суденышка с тремя мачтами и следа не осталось. А перстень был морской, самодельный — и с надписью: «Тебе моя синпатия» (подчеркнуто в письме А. Эфрон).
Перед прощанием своими руками переплела и подарила мне издание «Универсальной библиотеки» — маленькую и толстую книгу «Москва — сборник стихов о Москве и рассказов путешественников разных эпох. „В добрый путь…“» — написала она на книге. А на обороте титульного листа переписала свое стихотворение о Москве — то самое, которое когда-то читала на жухлой траве под стенами Новодевичьего монастыря.
Я уезжал на две недели в Крым, в Феодосию, по семейным делам — шел на вокзал пешком с корзиной в руках. Марина и Аля провожали меня до Лубянской площади. В корзине лежали хлеб и оладьи, испеченные для меня Мариной. У Никольских ворот мы остановились. Марина вдруг отошла от нас, на углу у торговки купила яблок и набила ими мои кармины — мне на дорогу. Потом обе благословили меня, чтоб путь мой был добрым и легким. Мы обнялись, расцеловались и снова расцеловались, и я наклонился, чтоб маленькая Аля могла обнять меня на прощанье.
В дневнике 1921 года, выписки из которого прислала мне А. Эфрон, она записала:
«Наши гости скоро уехали. Сперва уехал Борис на извозчике с чемоданом и непродающимся Репиным. После его отъезда мы пошли на рынок за грибами усладить отъезд Миндлина. Мы его хотели проводить. Скоро настал этот день… Вышли из дома. Э. Л. нес свою корзину, я палку. Мы проводили Миндлина до Лубянской площади. Подошли к углу, и Марина купила Миндлину два кармана яблок и отдала ему последние 20 тысяч. Мы поцеловались и поцеловались еще раз и еще раз. Мы его перекрестили, и он пошел. Пошли и мы».
Я взвалил свою легонькую корзинку на плечи и зашагал, пересекая булыжную площадь. Посреди площади оглянулся — в ту же минуту оглянулась Марина с Алей. Мы помахали друг другу — и пошли в противоположные стороны, они в Борисоглебский, домой, я на Курский вокзал.
Я шагал по Мясницкой, все еще ощущая прикосновение нежных, как лепестки фиалок, губ девятилетней Али. Тогда я еще не знал, что маленькая Аля вела дневник и вносила в него записи обо мне. Еще менее я мог представить себе, что в то время, когда я жил у Цветаевой, Аля писала Елене Оттобальдовне Волошиной, матери поэта, — Пра, как называли ее все окружающие и ее сын, — о моей жизни у Марины Цветаевой.
17 августа (ст. стиля) 1921 года Аля писала Пра:
«Сейчас у нас гостит молодой Фавн (не по веселости, а по чуткости), ничего не понимающий в жизни, любимый зверь его карегрустноглазый бизон (грустная, добрая, побежденная тяжесть). Видели вместе в зверинце. (Сказывается лесная чуткость к тяжелым шагам.) Наш гость — странный: ничего не ест, никогда не сердится. Это молодой поэт Э. Л. Миндлин. У него есть фотография Макса: полулежит на диване в рубашке».
Другое ее письмо — в день моего отъезда. 6 сентября (ст. стиля) 1921 г.:
«… это письмо Вам передаст Э. Л. Миндлин. Он был нам хорошим другом, помогла во всем. Это было особенно трогательно, потому что он сам совершенно беспомощен и такой же медленный, как я. Завидую ему: он увидит Вас и море».
VII
Возвратясь из Крыма, я застал Цветаеву в сборах к отъезду.
Виза была ей обещана — она ждала ее со дня на день. Разговоров только и было что об отъезде.
Она не представляла себе, на сколько времени покидает свою Москву. Никаких определенных планов на будущее! Наверняка не предполагала, что покидает ее почти на два десятилетия. Задумываться о будущем, строить планы вообще было не в духе Цветаевой.
Я больше не жил в петухивной. Там еще оставался какой-то мой узелок. Я уже стал обладателем собственной комнаты — получил по ордеру сущим чудом.
Комната была в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома на Садово-Самотечной. Вода в доме не шла, тащить надо было ее с первого этажа по нескончаемой лестнице — лифт в те годы нигде в Москве не работал. Но трудно ли в 21 год втащить на восьмой этаж наполненное водой ведро, взятое у хозяйки квартиры!
Это была моя первая «собственная» комната в Москве: Цветаеву забавляло, когда я взахлеб рассказывал о своем жилище.
По легкомыслию лет, по юношеской своей слепоте, по эгоизму молодого человека, увлеченного устроением своей жизни, я не замечал, как ей трудно и как сложно ее душевное состояние перед разлукой с ее Россией, перед чужбиной, перед тем неведомым, что ожидает ее там — за Россией…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: