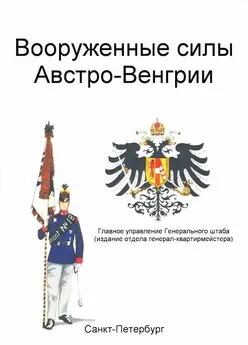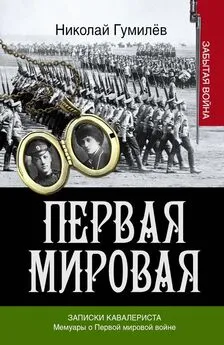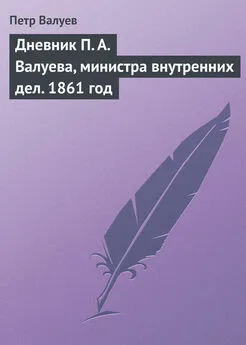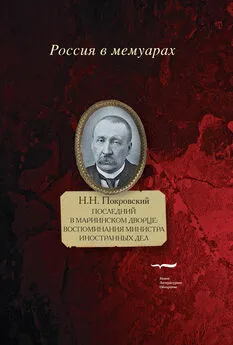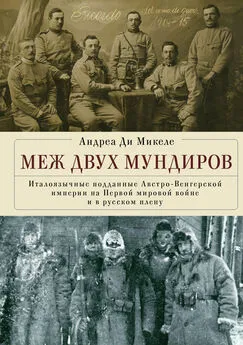Оттокар Чернин - В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии
- Название:В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Вече
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4484-8668-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оттокар Чернин - В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии краткое содержание
В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Того конца, который в действительности наступил, того состояния, до которого мы сегодня дошли, я не предвидел, да и никто не предвидел размеров грядущего бедствия. В своих опасениях и мыслях я не доходил до катастрофы, такой громадной и такой глубокой. Заявление, сделанное мною императору Карлу в 1917 году, ставшее общеизвестным из вышеупомянутой моей речи и впоследствии перепечатанное, оканчивалось словами: «Победный мир немыслим, мы должны стремиться к миру компромиссному, хотя бы он и стоил жертв». Это убеждение внушило императору проект отдать Галицию Польше, то есть косвенно Германии, а также пустило в ход и все щупальца, протянутые к Антанте и долженствовавшие показать, что мы готовы к приемлемым жертвам.
Но всем было ясно, что Антанта решила рвать тело Австро-Венгрии на клочья, и это решение касалось как компромиссного, так и сепаратного мира, – уже потому, что оно соответствовало постановлениям Лондонского соглашения от 26 апреля 1915 года.
Постановления этой конференции, подготовившие почву для вступления Италии в войну, были решающими для дальнейшего хода войны, поскольку целью их было разложение Австро-Венгрии, и поэтому они навязывали нам оборонительную войну до конца. Мне кажется, что впоследствии – в те дни, когда военное счастье как будто склонилось к нам, – в Лондоне и Париже сожалели об этих постановлениях, потому что они отнимали возможность сближения с нами, а оно тогда считалось отчасти желательным.
Уже в 1915 году мы получили смутные сведения о содержании этих лондонских постановлений, хранившихся в строгой тайне, но точный текст мы их узнали лишь в феврале 1917 года, когда революционное русское правительство опубликовало их протокол, перепечатанный затем и в наших газетах.
По этому соглашению, обязывающему четыре державы, Англию, Францию, Россию и Италию, Италия должна была получить весь Южный Тироль до Бреннера, Триест, Герц, Градиску, всю Истрию, ряд островов, Далмацию и т. д. Затем Антанта связала себя во время войны также и с Румынией, и с Сербией и тем самым привела к разложению Австро-Венгрии.
Я нарочно остановился на всем этом, чтобы объяснить, почему сепаратный мир стал для нас физической невозможностью, другими словами, какие причины мешали нам закончить войну и сделаться «нейтральными». Эти причины фактически раскрывали перед нами только одну возможность, а именно – возможность переменить неприятеля и вместо того, чтобы воевать с Германией против Антанты, отныне воевать с Антантой против Германии. Необходимо прежде всего запомнить, что до последнего времени перед моей отставкой австро-венгерские и германские войска на Западном фронте были перемешаны и вся армия находилась под высшим германским командованием. На востоке у нас не было собственной армии в точном смысле этого слова; она влилась в германскую. Это было следствием нашей военной слабости по сравнению с Германией. Мы постоянно нуждались в ее помощи. Мы много раз взывали о ней в Сербии, Румынии, России и Италии, и нам всегда приходилось покупать эту поддержку частью нашей независимости. Явная слабость нашей армии отнюдь не была виной отдельных солдат, а скорей продуктом всех условий государственного строя Австро-Венгрии. Она была плохо снаряжена и вступила в войну с очень незначительной артиллерией; виноваты в этом ряд военных министров и парламенты. Венгерский парламент душил армию в течение долгих лет из-за того, что его национальные вожделения оставались в загоне, а австрийские социал-демократы всех оттенков выступали против обороны, потому что видели в ней не оборонительные, а наступательные планы.
В некоторых отношениях наш главный штаб был совсем плох. Исключения бывали, но они только подтверждали точность правила. Во-первых, недоставало контакта с воинскими частями. Штабные чины сидели в тылу и отдавали приказы, солдат на фронте почти никогда не видел их вообще – а тем более там, где свистят пули. За время войны войска научились ненавидеть Генеральный штаб.
В германской армии дело обстояло иначе. Германский Генеральный штаб требовал много, но и многое давал; во-первых он рисковал собою и подавал пример. Людендорф взял Льеж с шашкой в руках, во главе небольшого отряда! Затем у нас первые места были заняты эрцгерцогами, совершенно не подходившими к своей роли. Эрцгерцог Фридрих-Евгений и Иосиф составляли исключение. Первый очень верно понимал свое положение и являлся не командующим боевыми операциями, а связывающим звеном между нами и Германией, с одной стороны, и между армией и императором Францем-Иосифом – с другой. Он всегда выступал с выдающимся тактом и корректностью, и ему удавалось устранить многие осложнения. А после Луцка мы утеряли почти весь последний остаток нашей независимости.
Итак, чтобы вернуться к вышесказанному: отданный нашим войскам на Восточном фронте приказ сложить оружие или оставить фронт, несомненно, вызвал бы военные трения на самом фронте. Имея в виду все решительное противодействие, которое германское командование безусловно оказало бы такому приказу, следует ожидать, что приказы из Вены и противоположные приказы из Берлина вызвали бы полную дезорганизацию и даже анархию.
Мирный и бескровный уход с фронта был, по глубокому моему убеждению, немыслимым. Я говорю это для того, чтобы объяснить свою уверенность: представление о том, будто такое разъединение обеих армий могло пройти с общего согласия, покоится на совершенно неверных предпосылках. Уже из одного указанного факта видно, почему мы не могли закончить войну сепаратным миром, не ввязавшись тем самым в новую войну. Картина, разыгравшаяся на фронте, повторилась бы в тылу в еще более густых красках – гражданская война была бы неминуема.
Я хочу здесь выяснить также и второе недоразумение, также порожденное моей цитированной выше речью от 11 декабря и коренящееся в следующем выражении: «Если бы мы вышли из ряда воющих держав, то Германия не могла бы больше продолжать войну». Это выражение – я согласен, что оно не ясно, – было истолковано в том смысле, будто я хотел сказать, что если бы мы ушли с фронта, то падение Германии было бы неизбежно. Этого я никогда не хотел сказать, не говорил и не думал. Я только хотел сказать, что наше отпадение от Германии лишило бы ее возможности довести войну до победоносного окончания или хотя бы даже до успешного продолжения ее. Иными словами, такой факт поставил бы Германию перед альтернативой: или подчиниться предписанию Антанты, или применить все крайние средства для подавления Австро-Венгрии, то есть уготовить ей участь, аналогичную участи Румынии. Я хотел сказать, что если бы Австро-Венгрия пустила на свою территорию войска Антанты, то она явилась бы для Германии такой ужасной опасностью, что последняя была бы вынуждена сделать все от нее зависящее, чтобы перегнать нас и парализовать такой шаг с нашей стороны. И тот, кто думает, что германские генералы не сумели бы этого сделать, тот плохо их знает и очень неверно оценивает их психологию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: