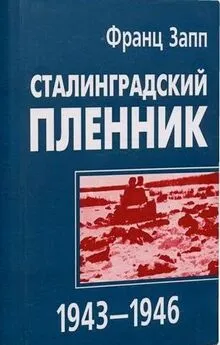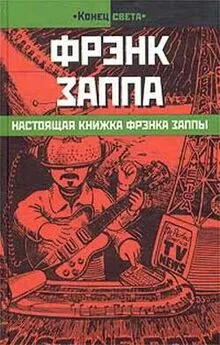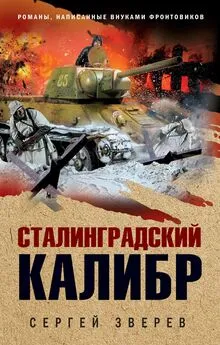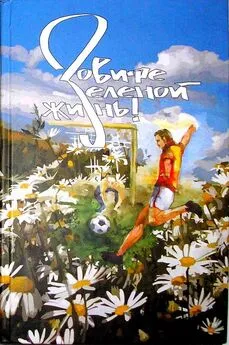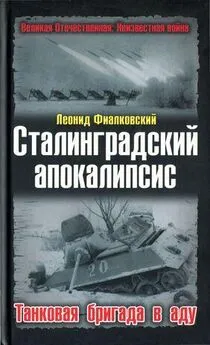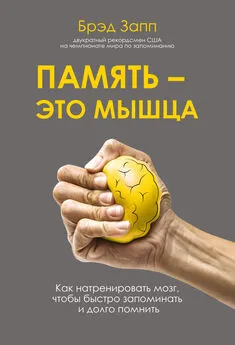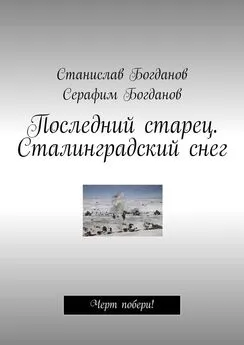Франц Запп - Сталинградский пленник 1943–1946
- Название:Сталинградский пленник 1943–1946
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Петербург — XXI век
- Год:1998
- ISBN:5-88485-057-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франц Запп - Сталинградский пленник 1943–1946 краткое содержание
Сталинградский пленник 1943–1946 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Их разместили в палатках, и сначала они помогали сажать сахарную свеклу и картофель, а затем занимались текущими работами. Еда была скудная, поэтому частично в пищу употреблялся семенной картофель. День начинался очень рано, в 5 утра, а в полдень, когда было очень жарко, делали большой перерыв, во время которого пленные лежали или спали в палатках. Там было очень жарко, а тучи мух и мошек не давали людям спать. Когда солнце опускалось и жара спадала, люди снова выходили на работу, которая продолжалась до темноты. Затем они мылись и ужинали. Заканчивался трудовой день примерно в И часов вечера. Но и потом они долго не могли уснуть из-за полчищ комаров. Существовали жесткие нормы для каждого вида работ. Не хватало питьевой воды, приходилось пить озерную, застоявшуюся, или речную. Поэтому все больше людей с кишечными расстройствами доставляли к нам в лагерь. Здоровее, чем прежде, никто не стал.
Когда наступила осень, началась уборка картошки. За день каждый пленный, как и колхозник, должен был выкопать и засыпать в мешки картошку с определенной площади, при этом учитывалась именно площадь, а не сам урожай. Год выдался урожайным. Поэтому охватить всю площадь по предписанной норме люди не могли. При тщательном выборе картошки они не выполнили бы норму на 100 % и получили бы меньше хлеба. Поэтому убирали лишь крупный и средний картофель, остальной урожай оставался в земле.
Разумеется, для еды картошки было достаточно, ее пекли на костре из сухой картофельной ботвы. Особенно это любили немцы из Восточной Пруссии. Поздней осенью люди вернулись из колхоза, работа в котором едва оправдала их надежды на восстановление сил.
Время, которое мы проводили зимой в бараке, дало нам возможность преодолеть первоначальную фазу апатии, люди стали больше и охотнее общаться, окрепли земляческие и просто дружеские узы.
У нас, австрийцев, все больше развивалось чувство солидарности, что в конце концов привело к образованию австрийской группы, она становилась все сплоченнее и была замечена русскими. Они почувствовали, что по отношению к ним мы более открыты и доброжелательны, чем немцы. Чужой язык, другое мышление, другая политика и иной образ жизни не отталкивали нас. Мы уже не ощущали себя врагами и не презирали русских. Многие немцы все еще продолжали высмеивать русских, считая их людьми примитивной культуры. Насмехались даже над их рогатым скотом, который давал мало молока, забывая о том, что земля здесь не обеспечивает полноценного корма, а летом из-за большой жары травы быстро сохнут. Немецкий скот не смог бы есть эту сухую массу, а если бы и ел, то давал бы мало молока. Немцев потешали низкорослые русские лошади: дома, в Германии, все крупнее и лучше. Но дома у них не было сорокаградусных морозов, при которых зимовали русские лохматые лошаденки, покрытые сосульками, в холодном хлеву, где единственным кормом в это время служило сено. Я видел собственными глазами, как породистые немецкие лошади зимой быстро погибали, а русские лошаденки суровой зимой прытко катили меня на санях по степи.
Русским охранникам очень нравились немецкие песни. Когда бригады пленных отправлялись строем на завод, охранники часто командовали «Запевай!». Но немцы тогда делали это неохотно, а если и пели, то всегда военные песни, нередко и откровенно нацистские. До того, как русские узнали их содержание, песни им нравились, но когда кто-то обратил внимание на переведенный текст, отношение круто изменилось. Позже появилось несколько австрийских бригад, в одной из которых работал и я. И от нас охранники тоже требовали пения в строю. Нам же никогда не приходило в голову горланить нацистские солдатские песни. По-настоящему петь можно только тогда, когда это тебе по душе. Мы пели только австрийские песни, например, «Земли нет в мире краше, чем мой тирольский край» или «Как мир прекрасен и широк» и др. Все они заканчивались чудесными переливами на тирольский лад. Среди нас были настоящие мастера разноголосной колоратуры, любившие состязаться между собой. Наши песни не походили на строевые, но русские были в восторге, они симпатизировали нам, австрийцам. При пении мы часто забывали про голод и усталость, тоску по родине и все печали. Мы сердцем чувствовали, что наши часовые никакие нам не враги, а просто люди, почти друзья.
Подозрение в шпионаже
В один весенний день 1944 года, кажется, это было воскресенье, во время построения на обед Зепп Лейтепбауэр сказал мне, что вчера познакомился с двумя австрийцами: штирийцем Вилли Харрером и Карлом из Грюнбурга (Верхняя Австрия), что оба они симпатичные парни и мне будет интересно познакомиться с ними, так как в плен они попали не в котле, а один — раньше, другой позднее. То, что они избежали котла, явилось чистой случайностью. Они воевали на разных фронтах и попали в плен в разное время. Штириец был лейтенантом и оказался в плену тяжелораненным в августе 1943 года; Карл, унтер-офицер, был пленен в декабре того же года, будучи в дозоре, тут обошлось без ранения. Оба были захвачены в плен поодиночке. Харрера направили в наш лагерь в январе, но большую часть времени он находился в лазарете, Карла доставили недавно с этапом, о котором говорили, что он состоит из заключенных из категории особо опасных и склонных к побегу. Мы заранее знали о прибытии этапа, так как до этого ограда из колючей проволоки была тщательно укреплена. Любопытный Зепп уже имел кое-какие сведения об этих двоих австрийцах и рассказал мне, что унтер довольно хорошо говорит по-русски и даже умеет писать, но это создавало ему трудности в отношениях с комиссарами НКВД, которые подозревали в нем шпиона и часто допрашивали. Карл же думал, что кто-то из пленных очернил его в глазах НКВД. Он, конечно, не знал, кто это сделал и в чем состоит донос. Сейчас, сказал Зепп, он работает в бригаде Дозована, которая числилась штрафной и находилась на подземных работах.
Новые знакомые Зеппа заинтересовали меня во многих отношениях. Не только потому, что были земляками, но, прежде всего, потому, что от них я мог узнать, как обстояли дела на фронте вне котла и на родине. Меня интересовало также, как русские обращались с одиночными пленными, имевшими тяжелые ранения, ведь при движении уже в плену мы вынуждены были бросать тех, кто не мог передвигаться. Сам я, несмотря на тяжелое обморожение пальцев ног, отшагал многие километры, вполне понимая, что русские определенно не захотят, да и не смогут утруждать себя доставкой таких пленных в лазарет. У русских было слишком много своих солдат, нуждавшихся в госпитализации, поэтому я был убежден, что действовал правильно. Пока я размышлял об этом, Зепп сказал, что там, наверху, у лазаретного барака показался Харрер. Я посмотрел в указанном направлении и увидел высокого, тощего пленного в потрепанной форме, ковылявшего, опираясь на суковатую палку, в барак. Мы пошли навстречу, и тут же нам встретился еще один пленный, он поздоровался с Зеппом. Зепп сказал мне, что это и есть Карл из Грюнбурга. Он был первым верхнеавстрийцем, с которым я познакомился в плену. Мы быстро сблизились. Я ему сообщил, что благодаря служебным поездкам хорошо знаю Грюнбург в романтичном Штейертале. Он, конечно, хорошо знал Линц. Я ему сказал, что мне очень интересно узнать: когда, где и как он попал в плен и как с ним обращались русские. Одно дело то, что я сам видел и пережил как пленный при капитуляции всей 6-й армии, другое дело — он как одиночный пленный. Потом он мне рассказал всю свою биографию, включая службу в армии. Родился он в 1920 году в Грюнбурге. 28 февраля 1938 года получил аттестат зрелости, окончив гимназию за две недели до вступления гитлеровских войск. Он был одним из последних, кто получил аттестат по австрийским правилам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: