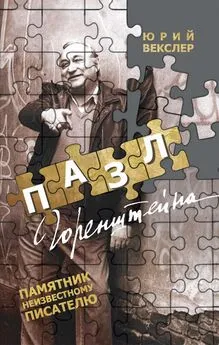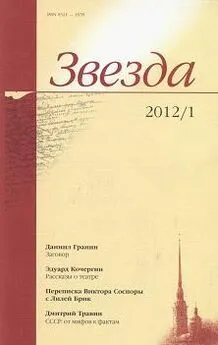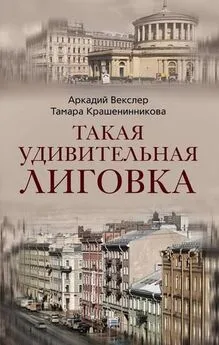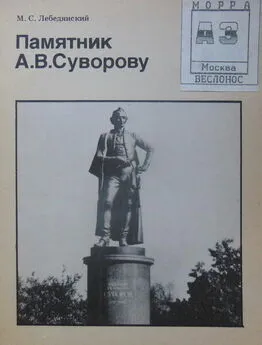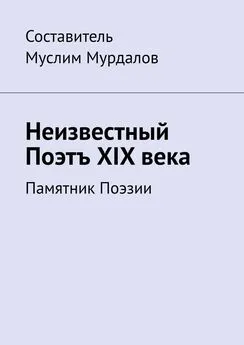Юрий Векслер - Пазл Горенштейна. Памятник неизвестному
- Название:Пазл Горенштейна. Памятник неизвестному
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ирина Богат Array
- Год:2020
- ISBN:978-5-8159-1608-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Векслер - Пазл Горенштейна. Памятник неизвестному краткое содержание
Пазл Горенштейна. Памятник неизвестному - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нет, мастерство Горенштейна – вне сомнений и подозрений, несмотря на субъективность подхода и оценки, несмотря на читательское (мое!) неприятие многого – можно бы и перечислить, но не вижу смысла. Что же мне мешало написать мой плач о Мастере?
Последним все в той же подборке «Октября» поставлен «Монолог после репетиции» Михаила Левитина, главного режиссера московского театра «Эрмитаж». В конце «монолога» читаем: «Кем ощущал себя Фридрих – писателем, драматургом, сценаристом? Отвечу: нет. Евреем. Я просто убежден. Евреем, противостоящим кошмару, хотя он не опускался до диссидентства, это было ему совершенно неинтересно… Он самый мощный писатель – нельзя сказать "поколения", потому что он к поколению никакого отношения не имел, но какого-то большого-большого времени, еще длящегося. Самый мощный и самый одинокий».
За исключением скверно пахнущего «опускался до диссидентства», всё здесь – и мои мысли тоже, но только скрытые, которым паскудный страх прослыть экстремистом не давал выйти наружу. Он, паскудный этот страх, и не давал мне взяться за горенштейновскую тему, требующую абсолютной безоглядности. Спасибо Левитину, нарушившему табу и проложившему путь.
Для начала – несколько общих дополнений к левитинской лаконичной зарисовке. «Мощный» в сочетании с «противостоянием кошмару» означает гнев, и гнев беспредельный, под стать кошмару, то есть тотальной ненависти к еврею во всех ее формах, от лагерей смерти до интеллигентского блеяния после университетского семинара на соответствующую тему. «В каком-то смысле, если хотите, я тоже антисемит». И сказать «негодяй!» или попросту плюнуть в глаза – ни-ни! Обличат в покушении на свободу слова или пристыдят: он ведь сам еврей (или полуеврей, или на четверть…). Горенштейн был самый гневный и в гневе своем самый бесстрашный, не боявшийся ни властей, ни «общественного мнения».
«Самый одинокий» – сказал Левитин, имея в виду житейские обстоятельства, положение в писательской среде до эмиграции и после. Для автора этих строк писатель – это написанное им и опубликованное или предназначенное к публикации, иначе говоря, функционирующее в системе «производитель-потребитель». Всё, остающееся вне этой системы, относится не к литературе, а к истории, психологии, анекдоту и т. д. Очень жаль Горенштейна и близких к нему людей, что у него был такой трудный, неуживчивый характер, что больше всех в жизни он любил свою кошку, но, по моему твердому убеждению, вход в личную жизнь писателя должен быть читателю воспрещен.
Однако одиночество Горенштейна – это и литературное обстоятельство: он стоит высоко над своими персонажами, ни с одним из них не идентифицируется. Более того, насколько я в состоянии судить, он их не любит, никого из них, ни мужчин, ни женщин, ни даже детей: мир ужасен, он не заслуживает любви. Горенштейн – самый мрачный из писателей своего времени, законченный пессимист и мизантроп. Ужасный этот мир в подавляющей части произведений Горенштейна населен уродами и чудищами, заставляющими вспомнить даже не Питера Брейгеля-старшего, а Иеронима Босха. Можно было бы применить к нему знаменитую формулу Николая Михайловского, выкованную тем для Достоевского: «жестокий талант», если бы корень «жестокости» не был совсем иным – эхом сверхнасилия Шоа (Катастрофы европейского еврейства – Ю.В. ) и антисемитизма в Советском Союзе во время и после войны, которую на Западе называют Второй мировой, а в России Великой Отечественной.
Еврей, которым ощущал себя в первую голову Фридрих Горенштейн, не определяется ни в терминах религии, ни в терминах политики. Традиционный иудаизм был ему чужд и, судя по всему, мало знаком. (Вопрос о его собственной вере или неверии оставляю в стороне – не возьмусь об этом судить.) Но и главное политическое и социокультурное движение в современном еврействе – сионизм, – его не привлекало и не интересовало. Он каким-то образом «привязывал» себя к остаткам (не сказать ли «к останкам»?) исчезнувшей еврейской цивилизации черты оседлости – к обломкам обнищавшего, обезлюдевшего местечка, к обнищавшему, обезображенному идишу советского и даже специально послевоенного советского образца. «Каким-то образом» – потому что автор этих строк решительно отказывается понять, что общего у Горенштейна (не человека, разумеется, а драматурга, стоящего над своими персонажами), что общего у него с этими остатками-останками, перевоплощенными художеством в пьесу «Бердичев». Ее персонажи, чисто босховские, резко, даже грубо окарикатуренные, способны вызвать лишь отвращение, так же, как их чудовищный русский язык – сверхмастерски (не хочу участвовать в девальвации слова «гениально») скомпонованное подражание тому идишу и смеси русского с идишем, на которых, по представлению Горенштейна, говорило уцелевшее после Катастрофы еврейство бывшей черты. В какой мере это представление отвечало действительности, вопрос особый, касаться его не станем; для нас существенно, что ничем, кроме поэзии экзотического уродства, этот «язык» привлечь не может. И, словно для того чтобы показать, что уродство и убожество – не стилистическая норма еврейства, параллельно с «Бердичевым» пишется роман «Псалом» (1974–1975), ставший главной вершиной творчества Горенштейна (надо ли повторять, на мой взгляд); стилистически это парафраз еврейской Библии, ТАНАХа, в русском изводе, разумеется.
Сопоставим:
«Ай, Сумер, ты еще не изжил психика капиталиста. Но Советская власть ведь дала тебе работу. Ты заведующий в артель. Правильно я говорю, Пынчик? Вот Пынчик при Советская власть сделался большой человек, майор. Он живет в Риге. А кем был его отец до революции? Бедняк. Ты, Сумер, помнишь, что в двадцать третьем году содержал магазин от вещи, но ты не помнишь, как наша мама лышулэм, покойная мама поставила сколько раз в печку горшки с водой, потому что варить ей было нечего и было стыдно перед соседями, что ей нечего варить».
«Бердичев», действие первое, картина третья.
И:
«…Посланец Господа Антихрист его сразу разглядел и узнал. Стоящий перед ним в тапочках, майке-сетке и шелковой пижаме был из колена Рувима, первенца Иакова, некогда сильного, но уже давно пришедшего в упадок, из которого не многие войдут в Остаток и дадут Отрасль… То, что стояло перед Антихристом, было концом, начало же ему было в египетском рабстве, когда изнурения и жестокости фараона боролись с цепкостью и желанием выжить сынов Иакова».
«Псалом», IV, «Притча о болезни духа».
(Прошу поверить: оба отрывка не выбраны, а взяты наугад.)
Как ни судить о стилистике и грамматике первого отрывка, они, так или иначе, отвечают реальностям, обстоятельствам, духу конкретной хронологической (или, может быть, хронотопической?) точки – 1946 году в выжженной войной и Катастрофой-Шоа Украине. Второй отрывок, как и весь роман «Псалом», включает российскую, советскую современность неким звеном в цепь Священной истории, то есть – истории еврейского народа, избранника и возлюбленного Божия. И не только фабульно, но и стилистически, и даже стилистически – в первую очередь, поскольку эта включенность ощущается непосредственно и на каждом шагу. В этом можно убедиться – надеюсь! – даже на предлагаемом мною примере.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: