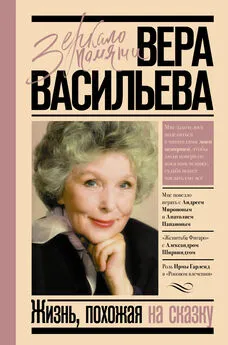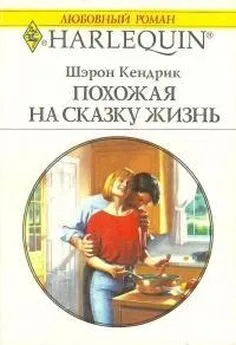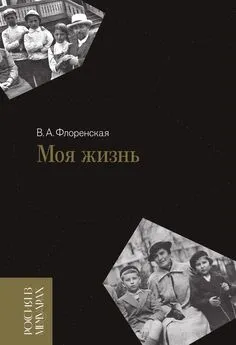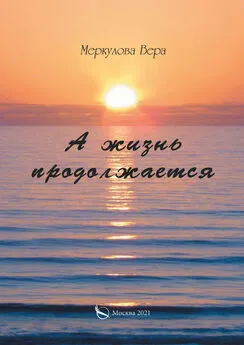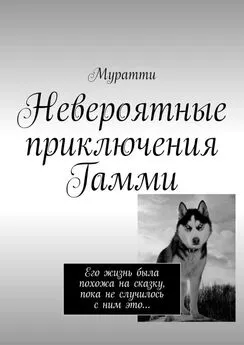Вера Васильева - Жизнь, похожая на сказку
- Название:Жизнь, похожая на сказку
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-108747-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вера Васильева - Жизнь, похожая на сказку краткое содержание
Жизнь, похожая на сказку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В двенадцать лет я уже готовила обед для всей нашей семьи. Меню обычное: щи, картошка и капуста или винегрет. И всегда, когда я чистила картошку, пела свои арии, с неизменной шляпой на голове. Жили мы на первом этаже, и с улицы меня хорошо было видно. Так во дворе я получила прозвище «Шаляпин». О том, что был такой великий певец, я не знала и думала, что дразнят меня Шаляпиным из-за шляпы. Но в ней я казалась себе красивее, поэтому упорно ее не снимала. В нашем дворе стоял семиэтажный дом (он и сейчас еще цел), его третий этаж украшала скульптура рыцаря, а парадный вход в то время был расписан какими-то картинами из эпохи Средневековья. Мраморные лестницы вели наверх. Вот именно там, где были эти почерневшие картины и лестницы, мы устроили свой дворовый театр, который я назвала для себя «Театром волшебной сказки». Там мы ставили свои сочиненные по сказкам спектакли. Мне приходилось играть мужские роли, так как мальчиков у нас не было, а все девочки хотели быть принцессами и обязательно красивыми. Костюмы мастерили из всего, что удавалось стащить из дому. Родители у всех работали, бабушек почти ни у кого не было – мы были предоставлены сами себе и делали что хотели.
В школе я училась хорошо, но, пожалуй, старалась только для того, чтобы на меня не обращали внимания и оставили бы в покое – не вызывали родителей, не ругали… В школе я выполняла минимум требований, а вся моя настоящая жизнь сосредоточилась на книгах, нашем театре и на несбыточных, странных мечтах. Перечитав маленькой девочкой почти все имевшиеся тогда в театральной библиотеке мемуары великих артистов, я стала рисовать себя во всех желанных ролях, и долго в моем школьном портфеле, который хранился у моей сестры Антонины, лежали два рисунка с надписями: «Я в роли Маргариты Готье в день моего славного 25-летия сценической деятельности» и «Я в роли Клеопатры в день моего славного 50-летия».
Я буквально пропадала в театральной библиотеке, перечитала все журналы «Рампа и жизнь», «Театр и искусство», знала всех актеров и антрепренеров по именам и фамилиям, разыскивала старые газетные рецензии, театральные фельетоны и прочее в том же духе. И когда я, будучи юной артисткой Театра сатиры, разговорилась с Владимиром Яковлевичем Хенкиным, он был поражен моими познаниями, так как тех людей, о которых я читала, он знал лично, но все это было до революции, а я пришла в театр в 1948 году, уже после Великой Отечественной войны.
В далекие предвоенные годы я подружилась с Катей Розовской, в замужестве Дыховичной, и вот уже семьдесят лет она является моей лучшей, любимой подругой. Мы вместе играли в куклы, вместе мечтали о сцене. Я стала артисткой, она – театроведом. Теперь у нее уже внук, у меня – только Театр. Только рожденные мною роли. Но это не так уж мало.
Семья Кати – интеллигентная еврейская семья – была еще менее благополучна, чем наша. Отец ее был репрессирован в 1933 году. Катя с мамой чудом уцелели. Мама оставляла ей еду на целый день, а сама уходила на работу. Катя по доброте душевной делилась всем со мной. В те годы я была на вид здоровущая, краснощекая девчонка, а Катя – худенькая, хрупкая, с огромными черными прекрасными глазами. Она меня угощала бутербродами, я все съедала, а потом ее мама, видя произведенные нами опустошения, частенько говорила: «Опять этот Стенька Разин все съел». Стенькой Разиным была я. Обретя подружку, так же любящую театр, я вступила в интереснейшую полосу жизни. Мы только и знали что бегали в театр, в театральную библиотеку и всё мечтали, как будем артистками.
Что же особенно запало тогда мне в душу?
МХАТ – с его старыми спектаклями, поставленными еще К.С. Станиславским: «Синяя птица», «Мертвые души»…
Любила я спектакли с Аллой Константиновной Тарасовой (особенно «Анну Каренину»), любила ее красоту, победное ощущение самой себя. Она с легкостью побеждала зал, потому что была прекрасна, обладая цельной, сильной натурой при удивительной, завораживающей женственности. Не мешали мне ни ее полнота, ни темперамент, который, как впоследствии я иногда слышала от профессионалов, был несколько истерического свойства. Я этого не видела, я была в нее влюблена.
Восхищала меня и Ольга Николаевна Андровская – ее улыбка, легкость, лукавство, женственность и редкостное обаяние. Я никогда не забуду ее леди Тизл в блистательном спектакле «Школа злословия» Шеридана. Андровская и Яншин в нем показали своим безупречным дуэтом высокий класс мхатовской школы. Вероятно, перед войной, когда поставили этот спектакль, Андровская не была такой уж молодой, но женщины очаровательнее ее я не могла себе представить. Неизменно хороша она и в кино. Вообще, в те времена, мне кажется, возраст актеров не имел особого значения. На это как-то не обращали внимания. Они царили в наших сердцах.
Еланская в роли Катюши Масловой не казалась мне такой победной, как Тарасова, но она очень трогала и потрясала меня, особенно в этой роли. И самое удивительное, когда я смотрела спектакли, забывала, что это роли и актрисы. Вместе с ними я была на сцене, жила их жизнью, вместе с ними плакала и смеялась.
А после этих спектаклей, этих снов наяву, – мой дом, скромная жизнь, заботы о деньгах, капуста, картошка, день, похожий на каждый следующий, как будто ничего и не происходило… Конечно, я уносилась в мечтах далеко. И чем больше чувствовала себя другой, тем незаметнее, тише, скромнее была наяву – самая послушная, самая скромная, самая исполнительная дочка. Никаких игр, никаких срывов, никаких влюбленностей, одно послушание, а внутри своя упрямая, несбыточная страсть – сцена, другая жизнь, другие чувства, другие события.
…Нежная, тонкая, капризная, с серебристым, как эолова арфа, голосом – Бабанова. Мне нравились ее арбузовская Таня, Диана в «Собаке на сене», а вот ее Ларису в спектакле «Бесприданница» я не приняла, потому что мне очень нравился протазановский фильм, я смотрела его около десяти раз, знала наизусть и обливалась слезами в финале картины. Никогда не забуду, как Паратов – Кторов бросал свою шубу под ноги Ларисы – Алисовой и как она победно шла по ней и на лице ее горел восторг.
Чудесная Марецкая – одновременно земная и романтичная. Ее Машенька, трогательная, с простым детским личиком и удивительно горестными глазами, озорница Мирандолина! А ее прекрасные русские женщины в кинофильмах!
Остужев в роли Отелло, его неповторимый голос, его темперамент, одухотворенность. Внешняя красота и внутреннее благородство!
Алиса Коонен в роли мадам Бовари! Для меня она была чуть-чуть далекой, но такой удивительной, что забыть, как она шла по лестнице и говорила: «Все равно! Все равно!..» – невозможно.
Мир старого театра, который так пленял меня в книгах, вдруг чудился мне в тех спектаклях, о которых я так коротко сейчас вспоминаю. Ничего новаторского я в то время, наверное, не только бы не приняла, но и не поняла. Я даже и не слышала в детстве таких имен как Мейерхольд, Вахтангов. Целые театральные школы прошли мимо моего сознания, хотя время было тогда творчески ярким и бурным. Но я жила в рабочей среде, и эта среда была очень далекой от искусства. О Театре сатиры я и понятия не имела. Вот уж никогда не думала, что вся моя жизнь будет связана с этим театром, с этим жанром!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: