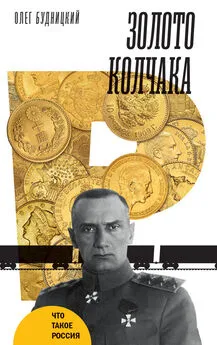Олег Будницкий - Люди на войне
- Название:Люди на войне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814925
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Будницкий - Люди на войне краткое содержание
Олег Будницкий — доктор исторических наук, профессор, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ, автор многочисленных исследований по истории ХX века.
Люди на войне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В первые дни войны аресты подозрительных, в том числе активных верующих, начались по всей стране, включая местности, находившиеся за тысячи километров от театра боевых действий. В Москве 22 июня (не позднее 7 часов утра!) по предписанию начальников управлений НКГБ и НКВД по Москве и Московской области были приготовлены списки на немедленный арест 1077 человек, в том числе троцкистов (78), бывших членов антисоветских политических партий (82), «сектантов-антивоенников» (91). К 17 часам того же дня «на основании имеющихся агентурно-следственных материалов» в Москве уже проводилось «изъятие активнодействующего контрреволюционного элемента». В порядке «изъятия» «контрреволюционного элемента из гор. Ленинграда» 25 августа 1941 года было намечено арестовать 27 «церковников, сектантов, католиков и клерикалов» и еще 38 выслать.
В целом динамика поступления дел по контрреволюционным преступлениям в верховные, краевые, областные и окружные суды союзных республик за 1941 год (без Украины, Белоруссии, прибалтийских республик и Молдавии, оккупированных противником) выглядела следующим образом:
РСФСР: I квартал — 5248 (100 %), II — 4846 (92,3 %), III — 13 310 (253,6 %), IV — 8895 (169,5 %). По 8 союзным республикам (Азербайджан, Грузия, Армения, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия): I квартал — 1092 (100 %), II — 1182 (108,2 %), III — 4172 (384,4 %), IV — 4198 (384,4 %).
Всего: I квартал — 6340 (100 %), II — 6028 (95,1 %), III — 17 482 (275,7 %), IV — 13 093 (206,5 %).
Снижение поступления дел по контрреволюционным преступлениям в 4‐м квартале 1941‐го и в 1942 году в суды общей подсудности объясняется передачей с конца ноября 1941‐го значительной части таких дел в Особое совещание при НКВД и преобразованием ряда судов общей юрисдикции в военные трибуналы.
Резкий рост числа арестованных сразу после начала войны объяснялся вовсе не активизацией «контрреволюционеров». Арестовывали тех, кто находился на учете. Об этом ясно говорилось в отчете Молотовского областного суда о работе во второй половине 1941 года: «В мирное время были терпимы на свободе люди, в отношении которых имелись не совсем ясные материалы об их преступной деятельности. В военной же обстановке эти элементы на свободе терпимы быть не могут. Они были арестованы и преданы суду». Если в первом полугодии Молотовским облсудом приговоры выносились в среднем по 83,1 дела в месяц, то во втором — по 239,6. Кировский областной суд рапортовал о расстрелах участников Степановского мятежа в Нолинске в 1918 году, воров-рецидивистов, деятелей «православно-монархического подполья».
Волна репрессий, прокатившихся по стране во втором полугодии 1941-го — начале 1942 года, по ряду параметров напоминает «второе издание» Большого террора. Как и в 1937–1938 годах, репрессии носили превентивный характер и осуществлялись на всей территории страны, обрушившись на «подозрительных» не только в прифронтовых районах, но и на территориях за тысячи километров от театра боевых действий; объектами репрессий прежде всего стали определенные категории населения; наконец, период Большого террора напоминает крайняя жестокость приговоров. Если число осужденных судами РСФСР по 58‐й статье во втором полугодии 1941 года возросло в 1,4 раза по сравнению с первым, то число приговоренных к смертной казни — почти в 11,5 раза.
Во втором полугодии 1941 года были арестованы 1480 «церковников и сектантов». Можно с уверенностью утверждать, что число репрессированных по этой категории было существенно выше. Сведения по второму полугодию явно неполны в связи с оккупацией нацистами Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, ряда областей РСФСР. В статистических сведениях НКВД за тот год даже отсутствует традиционная таблица со сведениями о числе арестованных по территориальным и структурным органам НКВД.
В литературе встречаются утверждения, что с первых дней Великой Отечественной войны «кое-что начало меняться» в отношении религии и Церкви, прекратилась антирелигиозная пропаганда, а советское государство начало «поиски новых отношений с религиозными организациями»; изменилась государственная политика по отношению к Московской патриархии: действительность заставила Сталина, руководство ВКП(б) «перейти к диалогу во имя единства верующих и атеистов в борьбе с общим врагом России». «Уже в первый период войны… практически прекратились аресты священнослужителей».
Причина сравнительно небольшого числа арестов священников объясняется прежде всего тем, что «арестовывать стало практически некого», ибо к началу войны подавляющее большинство священников уже были репрессированы. Только в 1937 году были репрессированы как минимум 33 382 «служителя религиозного культа», а всего по категории «духовенство, сектанты» — 37 331 человек. В 1938 году по категории «сектантско-церковная контрреволюция» — 13 438 человек. По-видимому, большинство из них были расстреляны. На территории современной Новгородской области в 1937–1938 годах «было расстреляно не менее 83 % священников, служивших на приходах Московской патриархии на начало 1937 г.: 298 человек из 362» (судьба еще нескольких десятков неизвестна); из 315 храмов, действовавших на начало 1937 года, осталось три. Аналогичная картина наблюдалась и в других областях. В Орловской области с 1 октября по 31 декабря 1937 года были осуждены «1667 церковников и сектантов, в том числе расстреляно 1130 человек, а к концу 1941 года всего осуждено по религиозным мотивам 1921 человек, из них 1209 к расстрелу… С октября по декабрь 1937 года в Орловской области практически все духовенство было ликвидировано». К началу войны в современных границах области остались две действующие церкви.
Очевидно, что исследователи пишут о легальной, «наземной» части РПЦ. Между тем результатом массового закрытия храмов стало «расширение сферы церковного подполья». На нелегальное положение были вынуждены перейти не только отрицавшие «сергианство», но и лояльные Московской патриархии священнослужители и верующие. Священник из Осинского района Пермской (с 1940 года — Молотовской) области В. Д. Мокрушин ввиду отсутствия в Пермской епархии в 1939 году правящего архиерея был вынужден для рукоположения в сан съездить в Москву. Однако служить ему пришлось недолго: война застала Мокрушина в должности санитара психиатрической больницы в Молотове. С 1940 года он окормлял небольшую группу верующих, собиравшихся в «домашней церкви» на квартире А. А. Бурдиной. Двадцать первого июля 1941 года Мокрушин был арестован. Двадцать восьмого ноября Молотовский облсуд по статьям 58–10, ч. 2 и 58–11 приговорил священника нелегальной церкви и четверых прихожан (среди них — трех женщин) к расстрелу. Среди прочего подсудимых обвиняли в том, что они «клеветали на условия жизни трудящихся», то есть вели разговоры на общие для подавляющего большинства населения СССР темы. Мокрушина расстреляли 21 мая 1942 года, остальным заменили смертную казнь на 10 лет лагерей. Впрочем, легальное положение и патриотические проповеди ни от чего не гарантировали. Так, 20 марта 1942 года по обвинению в антисоветской агитации был арестован священник Алексеевской часовни в поселке Пожва Молотовской области К. П. Кунахович. Более года спустя ОСО НКВД осудило его на пять лет лишения свободы в качестве «социально опасного элемента».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
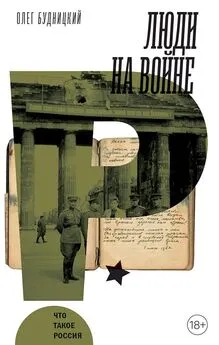


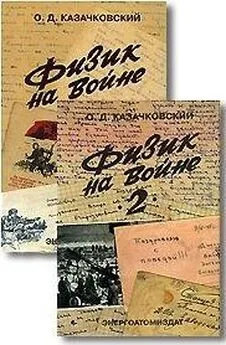
![Олег Будницкий - Терроризм в Российской Империи. Краткий курс [калибрятина]](/books/1058974/oleg-budnickij-terrorizm-v-rossijskoj-imperii-kra.webp)