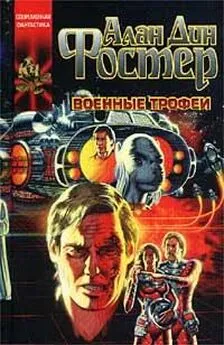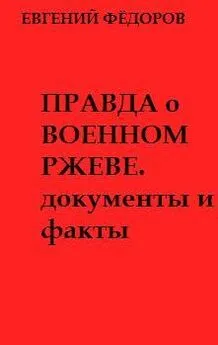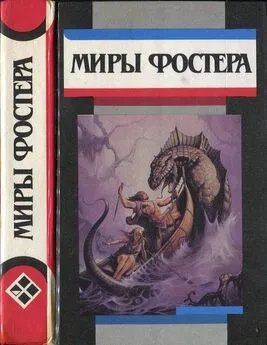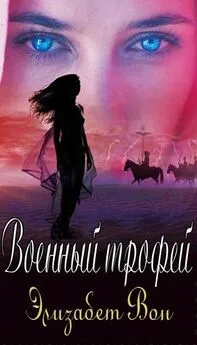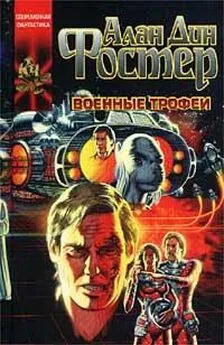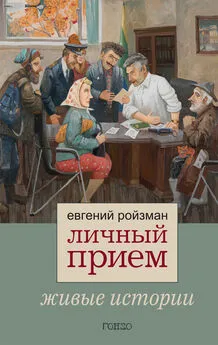Евгения Кацева - Мой личный военный трофей
- Название:Мой личный военный трофей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2002
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Кацева - Мой личный военный трофей краткое содержание
Мой личный военный трофей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
О втором периоде редакторства Твардовского написано много. Главное из этого, конечно, превосходные книги А. Кондратовича и В. Лакшина, воспоминания Ю. Буртина, И. Виноградова.
О первом же периоде свидетельств почти нет. Оно и неудивительно: время было зловеще-тусклое — поздне-сталинское, да и таких перьев в самой редакции не было. Хотя нет — работал Кондратович, но тогда он был совсем еще не “писучий”, а впоследствии писал главным образом о периоде “Твардовский-II”; к “Т.-I” он в начатых к концу жизни воспоминаниях только подступился, однако не успел развернуться; в опубликованных в “Знамени” (№ 3, 2001) заметках я с радостью прочитала добрые слова о себе, — спасибо тебе, Алеша, за этот неожиданный подарок.
Тем не менее и тогда были свои битвы и достижения, свои прорывы сквозь густую сетку идеологических и цензурных запретов. Здесь начинали свой путь многие будущие светила нашей литературы, — скажем, Ю. Трифонов; расцветали поэты-фронтовики, — кстати, чуть ли не единственный рассказ о поэзии “Нового мира” — интересные воспоминания в “Вопросах литературы” Софьи Карагановой, проработавшей в редакции все четыре периода Симонова—Твардовского. Здесь начинали оттачивать свои перья будущие критические авторитеты — Анатолий Бочаров, Андрей Турков, Лев Якименко. Нередко выступали испытанные бойцы, закалившиеся еще на страницах старого “Литературного критика” — Елена Феликсовна Усиевич, Михаил Александрович Лившиц, Игорь Александрович Сац, Владимир Борисович Александров-Келлер, — к ним у Твардовского было особенное отношение, не просто уважительное, но какое-то трепетно-почтительное, а уж к последнему, к Александрову, так прямо-таки нежное. Печатался он не много, но приходил в редакцию часто, любил посидеть возле моего стола; человек малообщительный, он мог разговориться и, несмотря на неважную дикцию, заставить часами слушать его, забыв о работе. Помню, однажды он заболел, и Александр Трифонович попросил меня навестить его, как-то смущенно добавив: “Только постарайтесь не обращать внимания на обстановку”. Предупреждение было нелишним: комната сроду не знала ни ремонта, ни, кажется, уборки. Тем более, что хозяин, закоренелый холостяк, не оправдал совершенно безосновательных надежд своей соседки по коммуналке и она буквально затравила его, не давая возможности выйти в ванную или кухню.
Атмосфера в редакции была замечательная, унаследованная еще от Симонова, — демократичная, дружная, солидарная. Работать было интересно и весело. В приемной постоянно толклись авторы, главным образом молодые поэты, приглушенно гудевшие под строгим оком многолетнего секретаря Зинаиды Николаевны Пиддубной. Зачастую они приходили вместе с женами, через какое-то время оказывавшимися, увы, бывшими, но тогда они взволнованно, но терпеливо дожидались своих мужей, когда те наконец исчезали в заветных крошечных комнатках, гордо именовавшихся кабинетами.
Одно время частым гостем у нас бывал Юрий Олеша. Александр Трифонович хотел, чтобы я заставила его для каждого номера написать что-нибудь, пусть небольшое по объему — короткую рецензию, размышление на тему (литературную) дня. Затея довольно скоро провалилась, Олеши хватило ненадолго, но двусторонняя деятельность была развита активная. Однажды я почему-то ехала вместе с Олешей в троллейбусе. Он решил громко опробовать один из будущих маленьких шедевров, чем привлек всеобщее внимание пассажиров. Я сконфуженно попросила его говорить тише, на что он, не сбавляя громкости, сказал: “А что, пусть хоть в троллейбусе послушают интеллигентный разговор”.
Работали, как водится, допоздна, и нередко Твардовский уводил нас потом в его излюбленный ресторан гостиницы “Центральная”, вместе с застревавшими авторами и заглядывавшими на приветливый огонек членами редколлегии Б. Горбатовым и В. Катаевым. Кстати, о Катаеве. Когда его роман “За власть советов” был раскритикован за недостаточное отражение роли партии, он написал в “Правду” покаянное письмо с обещанием исправить свою оплошность. Увидев у меня на столе газету, он сказал: “Эта заметочка будет им (он показал пальцем наверх) стоить сто тысяч”. — “Как так?” — “А я допишу четверть объема текста и мне вынуждены будут заплатить, как за первое издание”. Так и получилось.
Я работала вначале редактором в отделе критики, которым заведовала Зоя Кедрина, впоследствии печально прославившийся общественный обвинитель на процессе Синявского—Даниэля. Она вскоре вслед за Симоновым ушла в “Литературную газету”. Долгое время я оставалась одна “на хозяйстве”, пока не пригласили недоброй памяти Евгения Суркова. У него была непродуктивная привычка: забирать все рукописи и верстки, месяцами их не читать, не говорить ни да, ни нет, я изворачивалась перед авторами, как могла. Но Твардовский, который привык, что в отделе критики всегда можно подобрать готовый материал, который по объему подходил бы для затыкания создаваемых бдительной цензурой дыр в верстке, а то и в сверке, вдруг обнаружил, что портфель наш пуст, и уволил Е. Суркова за бездействие, назначив заведующим отделом меня.
Мелкие нападки были для нас делом привычным — не того похвалили, не того поругали. Но когда мы (с подачи, между прочим, “самого” Фадеева) опубликовали статью космополита А. Гурвича “Сила положительного примера” — о напечатанном еще при Симонове (и, говорят, очень сильно им отредактированном, что похоже на правду, ибо кроме слабой повести “Вагон” автор ничего больше не написал) почти культовом романе Василия Ажаева “Далеко от Москвы”, тут уж разговор пошел всерьез. В редакцию зачастили одна за другой комиссии, журнал прорабатывали на всех собраниях в Союзе писателей. А потом еще грянул скандал по поводу романа Гроссмана “За правое дело”.
Поначалу “Правда” напечатала вполне благожелательную статью Бориса Галанова. Но почти сразу же “отменила” ее “двуспальным” подвалом Михаила Бубеннова (кстати, члена редколлегии “Нового мира”, как ни странно), громившего напропалую роман и заодно редакцию.
К этому времени антикосмополитическая кампания подошла к своему апогею — делу врачей — “убийц в белых халатах”. На всякий случай евреев стали увольнять не только с медицинских рабочих мест. Все шло к тому, чтобы евреев вообще выселить из Москвы, поскольку история с врачами-“убийцами” доказала, что они недостойны жить в столице. Как известно, было подготовлено письмо, якобы от именитых евреев, с требованием осуществить этот замысел. Несколько интеллектуалов даже успели поставить свои подписи, пока письмо не попало к Эренбургу, который написал Сталину, подчеркнув, какой международный скандал это вызовет. Но адресата очень скоро не стало, и все как-то рассосалось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: