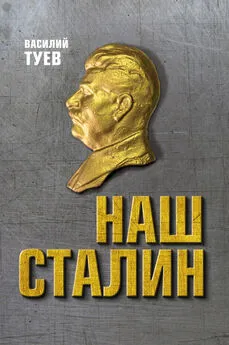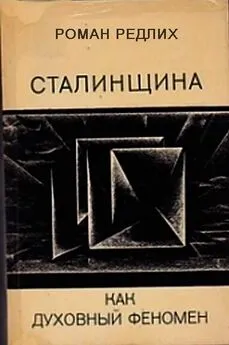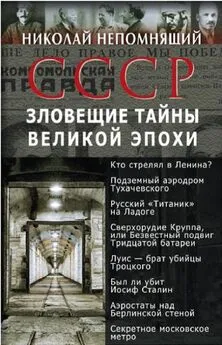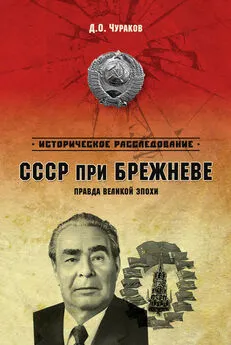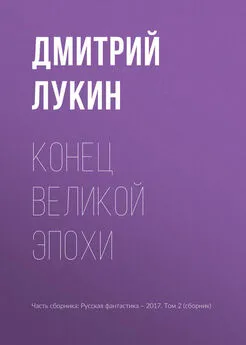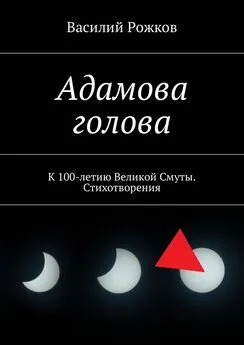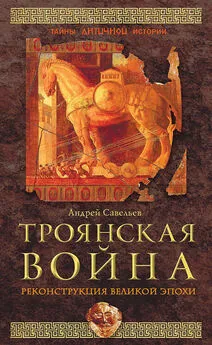Василий Туев - Наш Сталин: духовный феномен великой эпохи
- Название:Наш Сталин: духовный феномен великой эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00180-522-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Туев - Наш Сталин: духовный феномен великой эпохи краткое содержание
Адресуется специалистам – философам, историкам, политологам – а также всем, интересующимся историей сталинской эпохи.
Наш Сталин: духовный феномен великой эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Напротив, Сталин, совершив, правда, несколько чисто «деловых» поездок за границу (в апреле 1906 года – в Стокгольм, на IV съезд РСДРП, в мае 1907 года – в Лондон, на V съезд РСДРП, потом – столь же краткие поездки в Берлин, Краков и Вену), все это время оставался в России, в том числе семь лет – в тюрьмах и ссылках. Испытавший в детстве воздействие русского духа через православное воспитание и образование он, став революционером, оказался в самой гуще народа, в наиболее активной его части, где ярко проявляются движения народной души. Несомненно, что борьба с царизмом явилась для него серьезнейшей школой политического, культурного, нравственного становления. Тесно соприкасаясь с повседневной жизнью низших слоев тогдашнего российского общества, он сумел оценить значение их жизненного опыта для выработки ценностных предпочтений, стремлений и идеалов. Не потому ли ему было присуще столь глубокое, пронзительное понимание чаяний народной массы?
Как мы видели, шесть раз его арестовывали, бросали в тюрьмы, ссылали, пять раз он бежал из ссылки. В этих «путешествиях» зримо проявилась его способность находить путь к сердцам простых людей, – без их сочувствия и содействия подобные побеги были бы невозможны. Если помощь железнодорожных рабочих объяснить легко (они, чаще всего, сами были вовлечены в организацию побега), то участие и помощь крестьян, ямщиков, служащих постоялых дворов и трактиров (как правило, неграмотных) можно объяснить только тем, что Сталин превосходно знал психологию человека из народа.
Известно, что по доносам простолюдинов были «провалены» хорошо подготовленные побеги с каторги ряда декабристов, разночинных революционеров, народовольцев, да и большевиков, случалось, выдавали полиции вроде бы свои люди. Ф. Э. Дзержинского, опытного подпольщика, выдал рабочий парень, которого он по неосторожности познакомил с нелегальной брошюрой. А вот Сталина не выдали ни разу: ни дома, на Кавказе, ни во время побегов из ссылки. Несмотря на то, что акцент и кавказская внешность незнакомца настораживали, довольно скоро в нем видели уже не подозрительного инородца, а человека родственной души. Он умел – где сознательно, а где интуитивно – расположить к себе ямщиков на сибирских трактах, найти с ними общий язык. Он не отличался от этих людей «барскими» манерами, как некоторые революционеры из числа интеллигенции. Он никогда не пытался подкупить их, дать им денег «на чай» или «на водку», не предлагал им сделать «за взятку» нечто недозволенное. Он хорошо понимал, что такие предложения оскорбительны и унизительны для простых русских людей из глубинки с их открытостью, честностью, развитым чувством собственного достоинства и вместе с тем – с их пиететом перед государственной властью.
Он вел себя таким образом, что эти люди готовы были вступить с ним в общение как со старым знакомым, и обычно расставались с ним друзьями. Так, он не скрывал, что с полицией ему встречаться нельзя. Он не обещал, как некий богач, «хорошо заплатить», а заранее говорил, что денег на дорогу у него нет, но – добавлял с лукавой улыбкой – найдется один-другой штоф водки, и он обещает по аршину за каждый прогон. Ямщик охотно настраивается на «шутейный» тон и со смехом уверяет кавказца, что водку на Руси меряют не аршинами, а ведрами. Тогда он вытаскивает из-за голенища аршин, достает из мешочка несколько металлических чарочек, расставляет их рядком на аршине и наполняет водкой, – вот, дескать, это и есть аршин водки. Оригинальность незнакомца располагала: в нем видели не чужака, пытающегося путем подкупа толкнуть на нарушение закона, а «своего парня», каким он, впрочем, и был в действительности. Дело же приобретало вид необычной игры, а в игре все ее участники становятся товарищами. Ощущение «неприличия» сделки исчезало, возникала атмосфера веселой дружеской затеи, а «аршин» обычно распивался совместно под задушевные разговоры о жизни русского мужика.
При всем том он, по привычке старого подпольщика, сохранял осторожность: никогда не говорил, куда направляется, и высаживался через каждые три—четыре станции, чтобы продолжить свою игру с другим ямщиком. Расставаясь не без сожаления с веселым пассажиром, очарованные ямщики, не подозревая, кем он был на самом деле, восклицали: «Приезжай к нам еще!» Так он достаточно быстро продвигался в европейскую Россию, избегая на долгом пути встреч с полицией. Этой редкостной способностью моментально сблизиться с человеком из народа и объясняется успех его дерзких побегов из отдаленных уголков Сибири.
Именно там, общаясь с людьми из русской глубинки, он своим цепким умом постигает тончайшие нюансы народной психологии. Он чувствует всем сердцем необыкновенную душевную открытость и нравственную чистоту «простого» русского человека, честность его помыслов, его равнодушие к телесному комфорту и роскоши, его преклонение перед праведным побуждением, возвышенность и благородство глубинных движений его души, его свободу от всякого своекорыстия, его готовность к самопожертвованию ради светлых идеалов, его решимость идти за тем, кто провозгласит их и поведет за собой. Он понимает, насколько близки эти душевные устремления его собственным, впитанным еще в юношеские годы и утвердившимся в революционной борьбе. Он все более глубоко сознает стойкость и крепость народного характера, его духовный потенциал и способность к великим свершениям.
И отнюдь не случайно, что сам Сталин, десятилетия спустя, высоко оценивал роль своих «сибирских университетов» как школы жизни. Он говорил об этом в беседах с французским писателем Анри Барбюсом, с другими иностранными визитерами, и конечно же – в разговорах с близкими людьми. Вот, например, одна, не лишенная по-сталински мягкой иронии, легенда. Когда ему рассказали, что актер Михаил Геловани, сыгравший его роль в нескольких кинофильмах, и в жизни старается во всем походить на него, Сталин заметил: если уж он так хочет глубоко войти в образ, то начинать ему надо с Сибири.
Придет время, он получит возможность убедиться на суровом военном опыте в особой природе русского характера, в величии помыслов русского человека и с предельной откровенностью скажет, почему он так высоко ценит русский народ. А тогда, в Сибири, он все глубже проникается мыслью о том, что именно с этим народом сопряжены перспективы всего революционного дела, что жизненная задача его самого и его товарищей – завоевать симпатии многомиллионной массы трудового люда, и повести этих «простых людей» на борьбу за те идеалы, которые ими выстраданы и потому особенно дороги им, сделать эти идеалы программой всенародного созидания справедливого общества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: