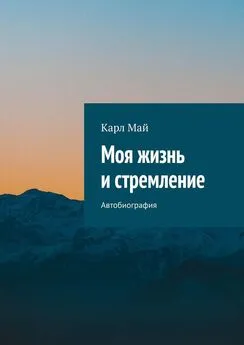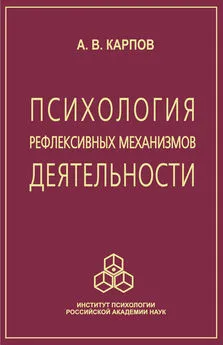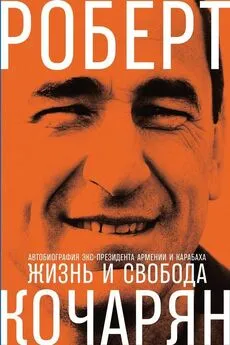Анатолий Карпов - Жизнь и шахматы. Моя автобиография
- Название:Жизнь и шахматы. Моя автобиография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-04-162623-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Карпов - Жизнь и шахматы. Моя автобиография краткое содержание
Жизнь в Советском Союзе и в современной России, путешествия по миру и впечатления о любимых городах и странах, занимательные истории о знакомствах с великими актерами, художниками, музыкантами, спортсменами и политиками – вот лишь часть того, о чем рассказывает великий шахматист.
Впервые раскрывается полная история соперничества с Корчным и Кас паровым и жесткая правда о борьбе с Илюмжиновым за пост президента FIDE. Эту книгу оценят не только поклонники шахмат и любители мемуаров, но и ценители истории, приключений, политических детективов и даже глянцевых журналов о жизни селебрити. Ведь такой любопытной партии Анатолий Карпов до этого никогда не играл.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Жизнь и шахматы. Моя автобиография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я хорошо помню эти заводские гудки, звучавшие и в первые послевоенные годы. Если завод зимним утром в семь часов трубил один раз – в школу не идут начальные классы, два – дома остаются и средние, три – все школы закрываются из-за сильных морозов.
Школы закрывали, а в шахматную секцию можно было ходить в любую погоду – ведь возрастного ценза там не было. Справедливости ради стоит сказать, что теоретические занятия все же иногда случались, но системы в них не было никакой. Пак по собственному желанию и наитию мог неожиданно объявить:
– Завтра изучаем королевский гамбит. Прошу подготовиться. – Как готовиться, не имея на руках никакой даже самой захудалой книжонки, он не говорил. А мы и не спрашивали, понимали, что Паком овладел очередной педагогический зуд, который скоро закончится. Действительно, хватало его на час-полтора, после чего все с удвоенным рвением принимались играть, будто хотели нагнать упущенное в россказнях время.
Мы жили шахматами и не ждали от них ничего, кроме живых положительных эмоций. Все в клубе, не исключая меня, были уверены, что играют в те же шахматы, что Алехин и Капабланка. Просто наш уровень на порядок уступает уровню великих мастеров. Какая наивность! Мы существовали в том простом шахматном мире, где никому не приходит в голову, что истинный смысл шахмат вовсе не в активности, а в равновесии. Теория казалась мне занятием скучным и даже ненужным. Откуда мне было знать, что любимая мною система развития, которую я выработал собственными умозаключениями, – это известная еще со Средних веков испанка? Мой винегрет, конечно, отличался от строгой интерпретации оригинала, но мотивы были слышны довольно явственно.
В клубе мы, конечно, росли. Сначала играли как бог на душу положит, затем увлеклись королевским гамбитом, который долго оставался в моде. Потом пришли к сицилианской защите, ребусы которой окончательно разгадать не смог никто из нас. Для этого не хватало определенной шахматной культуры, которой у нас – охваченных любовью к игре и жаждой познания – тогда еще не было.
Но сами участники клуба были о себе довольно высокого мнения. Помню, с каким апломбом, с какой язвительной иронией говорили мы об английском начале как о вопиющей демонстрации излишней медлительности. Мы даже представления не имели о том, что в каждом дебюте заложена своя философская идея. Впрочем, что касается философских идей, ни одна из них не была нам знакома.
А я и подавно скучал. Дебютные схемы напоминали мне скелеты вымерших животных. В них не было жизни, драйва, огня. Мне был понятен их прагматизм, но его пресность не привлекала. Он мог вызвать любопытство на короткое время, но никак не длительный интерес. Я был слишком мал, чтобы оценить причину такого своего отношения, слушал рассказы о схемах очередного дебюта вполуха и прикидывал, сколько же блицев можно было уже сыграть вместо того, чтобы так бездарно тратить время.
Это первое и довольно неудачное знакомство с теорией шахмат тем не менее навсегда предопределило мое отношение к дебютам, которым я со всей ответственностью и совершенно искренне могу назвать прохладным. Впрочем, неприязнь к шахматной теории в те годы нисколько не мешала моим шахматным успехам.
В десятилетнем возрасте я выполнил норму первого разряда и был отправлен на чемпионат России среди юношей в Боровичи – маленькое местечко между Москвой и Ленинградом. Условия там даже по советским меркам были ужасные: спали по десять человек в одной комнате, душ оставался недостижимой мечтой. Остальные участники турнира были в полтора раза старше меня и опекали как могли. Чтобы не стоять всю игру, мне приходилось приносить с собой подушку и подкладывать ее на стул, но даже это едва помогало мне выглядывать из-за доски.
Эти соревнования помню еще так хорошо, потому что начал их – практически единственный раз в жизни – сразу с двух поражений подряд, потом все же набрал 3,5 очка, приободрился, но тут же снова «получил по носу» от старшего соперника из Краснодарского края по фамилии Потупа. Выдержки и собранности мне – мальцу – тогда еще не хватало. Помню, выбежал из турнирного зала и разревелся, но слезы были спасением – эмоции нашли выход, что позволило успокоиться и взять себя в руки. Турнир я закончил достойно, в Москву, где на вокзале меня встречали мама с сестрой, возвращался с ощущением собственной значимости. Эти чувства абсолютно противоречат тому впечатлению, которое я производил на окружающих, в том числе и на маму, которая так вспоминала нашу встречу на перроне:
– Ты стоял такой маленький, растерянный, со взглядом затравленного волчонка. Чемодан, казалось, делал тебя еще меньше. Ты был в замызганных коротких штанишках на скрученных бретельках, в грязной измятой рубашке, в порванных сандалиях – немытые пальцы выглядывали через излохматившиеся дыры.
Могу представить, какой жалкий вид у меня был, но внутри все буквально лопалось от гордости. За успехи в шахматах администрация Челябинской области наградила меня путевкой в «Орленок», куда я и отправился сразу по прибытии с турнира.
Знаменитый впоследствии на всю страну лагерь в свою первую смену шестьдесят первого года был обычным палаточным городком на песке – на Черноморском побережье недалеко от Туапсе. Благоустроенные корпуса построили спустя несколько лет. Отбор в «Орленок» был действительно жестким, попасть туда можно было, только обладая талантом в какой-то области знаний. Мы все – участники первой смены – сразу это почувствовали, поняли, что произошел уникальный слет ребят со всей Российской Федерации.
Как только прошли первые конкурсы самодеятельности и первые спортивные состязания, вожатые увидели, насколько большим потенциалом обладают их подшефные. Кто-то предложил фантастическую идею – вызвать на поединок ребят, собравшихся во всесоюзном «Артеке». Представляю, сколько согласований в различных инстанциях потребовалось бы в нынешнее время, чтобы мероприятие состоялось. А тогда директора лагерей спокойно обо всем договорились между собой, и мы на тринадцати автобусах поехали из Туапсе за девятьсот километров в Крым.
Артековцы почему-то отнеслись к нашему визиту довольно легкомысленно, считали, что они заранее превосходят нас во всем лишь потому, что оказались в «Артеке». Но мы не позволили им насладиться ожидаемым триумфом – разгромили практически во всех конкурсах и состязаниях. Разумеется, я принимал участие в шахматном турнире, в котором мы с командой легко одержали верх.
Никто из российских «орлят» до этого путешествия в Крыму не бывал, поэтому, пользуясь случаем, нам решили показать весь полуостров. Из Артека мы отправились в Севастополь. Там впервые я попал на подводную лодку – еще образца Великой Отечественной войны, – где экскурсию нам провели настоящие военные моряки. После Севастополя нас повезли в Бахчисарай, оттуда в Феодосию в музей Айвазовского и в Керчь. Я был переполнен впечатлениями. Чего только стоят воспоминания о ночевке под Керчью в спальных мешках в открытой степи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
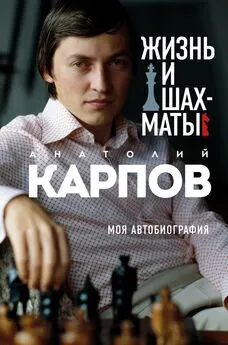

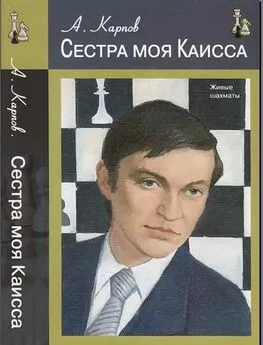
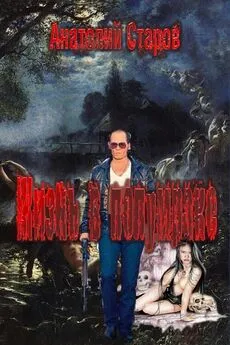
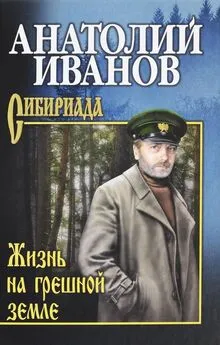
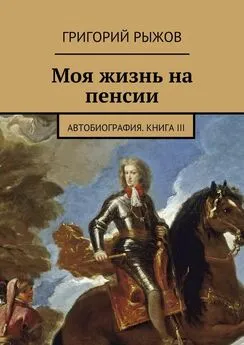
![Анатолий Карпов - Жизнь и шахматы. Моя автобиография [litres]](/books/1143433/anatolij-karpov-zhizn-i-shahmaty-moya-avtobiografiya.webp)