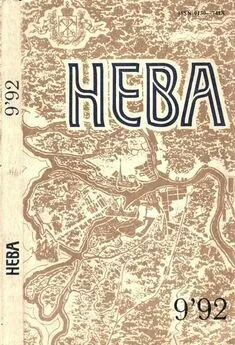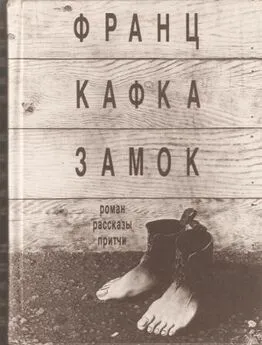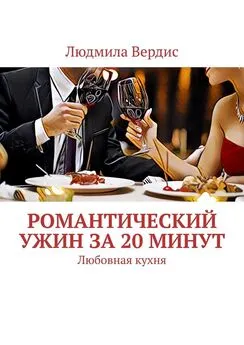Франц Верфель - Верди. Роман оперы
- Название:Верди. Роман оперы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Москва
- Год:1991
- Город:Музыка
- ISBN:5-7140-0313-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франц Верфель - Верди. Роман оперы краткое содержание
Автор книги – известный австрийский писатель – в популярной и доступной форме рассказывает о жизненном и творческом пути великого итальянского композитора, освещая факты биографии Верди, малоизвестные советскому читателю. В романе очень убедительно педставлено противостояние творчества Верди и Рихарда Вагнера. В музыке Верди Верфель видел высшее воплощение гуманистических идеалов. И чем больше вслушивался он в произведения великого итальянского мастера, тем больше ощущал их связь с народными истоками. Эту «антеевскую» силу вердиевской музыки Верфель особенно ярко передал в великолепной сцене венецианского карнавала, бесспорно принадлежащей к числу лучших страниц его романа.
Верди. Роман оперы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В просветленном самоупоении приветливо-высокомерно улыбались кавалеры этого суетного мавзолея: Рубини, Тамбурини, Лаблаш, Нурри, Дончелли, Лавассер, Дордонь и, наконец, Тамберлик и Грациани, из которых каждый в свой час был для парижан важнее Бонапарта.
За двумя комнатами, посвященными балету, открывалась зала композиторов, где стояли бюсты известных маэстро, а в витринах красовались посвящения и страницы партитур. Отдельная комната была отведена ранней неаполитанской школе. Под масками, похожими друг на друга, Верди читал написанные золотом имена, из коих лишь очень немногие были ему знакомы. Кто же они, все эти Анфосси, Джордано, Гарди, Гаццанига, Астаритта, Цингарелли, Маринелли, Капуа и Пальма? Не были ли они еще более мертвы, чем те певцы? Некогда любимые, чтимые, венчанные лаврами мастера! К чему все тщеславие творчества, последняя безумная мечта, которую невозможно умертвить?
«Что правильно? Что важно?» – громко выстукивало сердце. «Только для тебя, только для тебя!» – звучало в ответ. Когда-то он сказал: «Я много написал, могу теперь умереть». Но сейчас пробудилось иное чувство: «Я много написал. Не сегодня-завтра я могу умереть. Но все, что я сделал, уже не имеет для меня цены. Оно не существует. Все зачеркиваю. Как двадцатилетний юноша, я должен только начать свой труд. Горе, горе! Не слишком ли поздно?»
В следующей комнате маркиз, который здесь, в пределах своего царства, становился все менее автоматичным, обратил внимание Верди на бюст Симоне Майра.
– Маэстро знает, несомненно, что этот великий композитор был немцем. Тем не менее он не был чужд истинного искусства, идущего от песни.
Последний бюст изображал Винченцо Беллини, маэстро из Кантаны. Гритти почти отечески положил руку на голову изваяния:
– Он был последним. Святое дитя!
Вновь захваченный своей навязчивой идеей, он продолжал:
– Я на двадцать один год старше его, а он умер без малого пятьдесят лет тому назад. – И добавил: – У вас, у молодых, что за музыка, если в нее нужно вслушиваться?
Отворилась новая дверь. Тяжелый дух пыли, воска, сырости и тления ударил в лицо. Маэстро увидел пред собою очень длинную залу, где горели, как ему показалось, тысячи тысяч свечей, они беззащитно мигали, а вокруг огоньков плясали тучи моли.
Это было сердце коллекции. Здесь висели подлинные театральные афиши – без малого тысяча афиш к той тысяче различных опер, которые прослушал столетний за тридцать тысяч вечеров. Разнообразные по формату, стилю и раскраске, под стеклом и в рамах, они сплошь покрывали не только стены залы, но еще и ширмы, экраны, переборки, разгораживавшие это огромное помещение вдоль и поперек.
Снова зазвучал высокий голос маркиза. Но в странном смятении маэстро не слышит слов. Он хочет совладать с собою и, чтобы побороть все усиливающееся головокружение, принуждает себя прочесть первую попавшуюся афишу.
Он читает дату, читает название города и под ними такие строки:
Маэстро хочет неотрывно глядеть на афишу, потому что он знает: грозит нечто, чему нет имени. Но он не может противиться. Ужас сковал его: он видит, как пламя свечи лижет деревянную раму, как в одну секунду пожар охватывает весь этот бумажный мир. Шипение, треск! Огонь разбушевался. Страшный жар, черные тучи пепла, мертвящий дым, удушье!
Очень бледный, коротким, еле внятным возгласом подозвав к себе сенатора, Верди покидает зал и торопливо ищет выхода из галереи.
Остальные с удивлением смотрят вслед двум друзьям.
Видение пожара, властно и четко вставшее перед маэстро, оказалось, как это выявится позже, пророческим предчувствием.
VI
Маэстро не дал задерживать себя дольше. Он стоял на залитых водою ступенях, готовясь сесть в свою гондолу. Сенатор предложил проводить его. Он отклонил предложение.
– Невесело мы расстаемся, мой Верди!
В глазах добряка стояли слезы. Но друг в темноте не мог их разглядеть.
– Ох, этот химерический старик с его проклятой галереей!
Верди ответил уклончиво:
– Нет, не в том дело. В наши годы человек, хоть и чувствует себя неплохо, все-таки не должен переутомляться. Ах, друг мой, я стосковался по весне, по полям, где скоро начнется вспашка, по моим добрым животным; тяжело – и все тяжелее – ложится на меня тень города. Там, на воле, в своем доме, в хлевах, на воскресных базарах среди крестьян, – там я снова тот, кто я есть на самом деле. Лучше бы мне никогда и не становиться ничем другим!
Сенатор обеими руками схватил маэстро за руку.
– Верди! Хотел бы я хоть на день стать Джузеппе Верди!
– Не советую! Кто я такой? Ленивый, несчастный, опустошенный рантье славы, которая уже давно не слава. Я уже десять лет не композитор, но, к сожалению, и не крестьянин тоже.
Словно это признание было слишком откровенным, Верди поспешил проститься. Гондола быстро скрылась в ночи, потому что месяц спрятался, и легкий зимний холод справлял свое торжество.
Сенатор вернулся в комнату, к сыновьям. Ренцо читал книгу, Итало выказывал признаки крайнего нетерпения. Отец тоном оратора, привыкшего преподносить неоспоримые суждения, проговорил:
– Это величайший человек нашего времени, ибо он – самый подлинный! Вы почувствовали?
Никто не ответил на вопрос. Итало избегал раздражать отца, хотя считал мелодии «Трубадура» и «сантименты» «Травиаты» безвкусицей. А Ренцо, безнадежно немузыкальный, думал о Риме, о своих столичных друзьях.
Сенатор легко плакал, и чем больше входил в года, тем легче. Слезы расставания еще стояли в его глазах, и мысли его не могли оторваться от Верди:
– Вспомнить только, как взошло это солнце. Никто ничего не подозревал. Пришли послушать музыку безвестного маэстрино…
Итало знал наперед, что теперь последует рассказ о премьере «Набукко», давно набившей ему оскомину. Поэтому он при первой же возможности поспешил прервать сенатора. Правда, он сделал это тихо, немного натянутым голосом, – тоном, какой появляется у юноши, когда он в полночь сообщает отцу, что должен еще забежать к товарищу.
– Папа! Извини меня, я ухожу. Я договорился с Пиладом.
– Ладно, ладно! Ступай к своему Пиладу, мой Орест!
Старик не следил за путями сына. Хоть он и знал, что Итало редко ночует дома, он смотрел на это сквозь пальцы. Итало ушел очень быстро. Ренцо взял свою книгу и тоже простился.
Оставшись один, сенатор вдруг побагровел, словно силился подавить припадок бешенства; потом подошел к своим греческим текстам, раскидал их без надобности, вернулся к столу и закурил новую сигару. Его большое темпераментное лицо сразу стало приветливым. С чувственным довольством выпускал он дым, и голос его звучал лукаво и беспричинно весело, когда он, сам того не сознавая, процитировал латинский стих:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
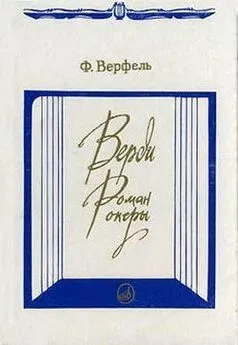

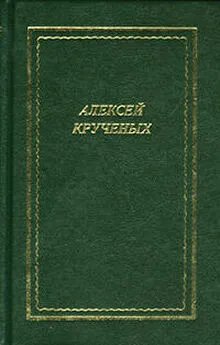

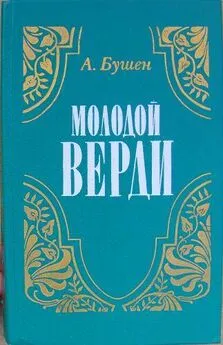

![Франц Кафка - Три романа: [Замок, Процесс, Америка]](/books/1098553/franc-kafka-tri-romana-zamok-process-amerika.webp)