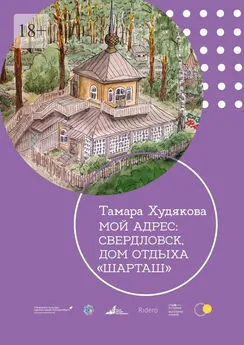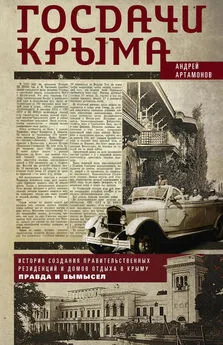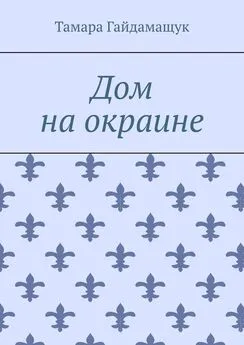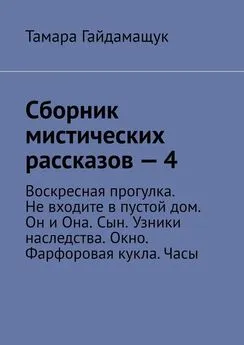Тамара Худякова - Мой адрес: Свердловск, дом отдыха «Шарташ»
- Название:Мой адрес: Свердловск, дом отдыха «Шарташ»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005567215
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тамара Худякова - Мой адрес: Свердловск, дом отдыха «Шарташ» краткое содержание
Мой адрес: Свердловск, дом отдыха «Шарташ» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сарай наш окончательно заледенел, и мы вселились в домик, несмотря на заваленную чужими вещами кухню. Пришла Исакова и радостно нам растолковывала, какая удача, что хорошее жильё нашлось и где у нас чего стоять будет, махала руками.
У нас появилось жилье! С печкой! Можно жить зимой. Но дачи эти, построенные для летнего семейного отдыха, хоть были очень красивы, совсем плохо были утеплены. Первые этажи были бревенчатые и ещё тёплые, а вот вторые, летние, не пригодные для зимы. Наша дверь была без тамбура, или сеней, и открывалась сразу на улицу, на открытую веранду. Большое панорамное трёхстворчатое окно с балконной дверью выходило прямо на озеро и не имело второй, зимней, рамы. Но жить было можно, кирпичная печь с плитой и духовкой придавала оптимизма, она была сложена уже, видимо, в советское время. Если зимой не минус 30, то можно натопить, правда, к утру было – бррр!
Опять мы перетащили свои пожитки на новое место. Путешественница-кровать! Стол нам сделал мамин племянник Валера, папа отдал маме швейную её машинку, привезённую им из командировки с Алтая, этажерку, столик на кухне оставили за небольшую плату прежние хозяева. Притащили ящик деревянный с какого то завода, напоминающий сундук, в него и на этажерку вошли книги, и мама купила у кого-то ещё годный шкаф платяной с одной дверцей. Ну, богачи! Вымыла мама до блеска всё, побелила стены, печь. Печь она белила каждый год весной. Покупала на рынке у пьянчужки камешки негашёной извести, гасила, заливая водой, брала мочальную кисть и возила ею по печке. И очень любила чистые окна, свежую постель, несмотря на то, что стирала в корыте, воду надо было принести на второй этаж и нагреть на печке, грязную в ведре вынести на улицу. Ни водопровода, ни канализации в шарташских домах не было. Полоскали хозяйки белье в озере, с мостков. Подарили нам даже половик, длиннющий, видимо на большие просторные комнаты был соткан, который уложился только буквой V, резать надвое рука не поднялась, он был очень красивый. Когда мамочка прибирала наш новый дом, пела «… в жизни раз бывает восемнадцать лет…». А было ей чуть за тридцать. Мама моя курила «Север», была бы побогаче, курила бы «Беломор», который стоил 22 копейки. «Север» стоил 14. Курить-то она начала в восемь лет, оставшись полной сиротой. Голодала. Сильно. Желанной едой было всё: очистки картофельные, выброшенные соседями, летом трава почти вся, побеги сосны (пестики), семена конопли, буйствовавшей абсолютно повсеместно, луковицы лесных саранок, ещё росших на Шарташе. Зимой совсем плохо. Чтоб натопить печь, ходила мама, когда уж совсем невмоготу, на железную дорогу. Поезд приближается, она с ведром, машет машинисту, он, под страхом доноса и тюрьмы, сбросит лопату угля на ходу в снег, мама потом впотьмах шарит руками в сугробе, в ямках, ищет разбросанные угольные камешки. Соберёт в ведро, что отыщет, и крадучись – домой. Нельзя, чтоб увидели, машинистов за такое сажали. Однажды в холодной избе от безысходности легла умирать на печь. Соседка знала, что сёстры старшие уже определились: Зойка в городе замужем, Надежда в ФЗО, в общежитии на Уралмаше. Дым из трубы не идёт какой день. А Нинка-то где?! Нашла её на печи, почти уже мёртвую, принесла к себе, отогрела, отпоила. Закуришь тут.
– Нина, а ты затянись и голод не почувствуешь, – уговаривали мальчишки, такие же бедолаги. Друзья же плохого не посоветуют. Дети войны. Мысли, любые, всегда сворачивали на еду. «По три дня, бывало, ничего и не откусишь», – говорила мама. Все мерялось едой. С мыслями о еде ложилась, с ними же просыпалась. Какие тут игрушки, их не было и было не до них. Наша ближняя церковь Всех Святых на Михайловском кладбище. С подружкой, китайкой Лялькой бегала в церковь огарки свечные в ларе воровать и жевать, пока бабка их не выгнала. Это были предвоенные годы. Когда чуть подросла, покупала на базаре стаканчик бобов. Положит бобик сухой за щёку, и он там лежит, разбухает-отмякает. И голод уже не страшен, вот, боб во рту. Это может показаться странным, но этот бобик создавал иллюзию достатка и сытости. Хочу – сейчас съем, а захочу – попозже. Невероятно стойкая была моя Нина. Мне и сейчас хочется прижать её ту, маленькую и страшно одинокую, голодную девочку. Но я уже не могу этого сделать. Каждый сам, в одиночку живёт, и ничего не бывает «бы». В жизни главное – набыться вместе. Мы так и сделали.
Шарташские дачи отапливались дровами, пережить зиму для всех было в те шестидесятые – маленькой победой. Но дрова не продавались как сейчас на каждом углу, буквально. До самых девяностых годов купить дрова было проблемой. В Свердловске было очень много домов, отапливаемых печами. Целые районы, даже в центре, не говоря уж об окраинах, причём и пятиэтажные дома сталинской эпохи, например, имели на кухне печь. Это сегодня грузовички с берёзовыми дровишками, уже колотыми, стоят на въезде в любую деревню и заборы уклеены предложениями. А тогда достать дрова было мучительно тяжело и даже невозможно. В «передовиках» этой нервной, ежегодной гонки были «свои люди», лауреаты, стипендиаты, начальство, заслуженные работники, многодетные, фронтовики, инвалиды и вся волна нечестивцев ещё, доставшая фальшивые справки. Мы с мамой не состояли в этих почётных рядах. И где же взять дрова?
Дровяной склад находился на перекрёстке улиц Малышева и Восточной, между железнодорожной насыпью и дорогой, и был недосягаем для нас ещё и по причине нашей бедности. А когда однажды каким-то чудом нам выписали дров и знакомый шофёр согласился их доставить, то привёз, страшно стесняясь, сырые, длинные обрезки тополей и осин. Ну, мы и такому были рады. Пилили их с мамой, кололи, а потом они дымили и не хотели гореть.
Ну как так, в лесу и без дров?! Но я же всё умею! Пилила и колола, но обычно собирала отвалившиеся от сосен сухие сучья, которые падали совсем не часто, или ящик от магазина приносила разбитый, или где ничей забор завалился совсем, доску подниму. Как ты этим, Тома, натопишь? Перебивались кое-как, день прошёл – и хорошо. Один раз мама принесла из кочегарки шарташской котельной ведёрко угля, дал его ей всё тот же сердобольный Володя Грехов. Но не знали мы, что уголь не дрова и если дрова прогорают и остаются жаркие угли, при которых, если нет пламени, хоть бы и голубенького уже, можно трубу и закрыть, то с углём это не пройдёт. Уголь надо досмотреть до полного остывания накала, а лучше вообще чуть щёлочку во вьюшке оставить, не плотно трубу закрыть, иначе…
Да. Мы угорели. Ночью, после смены, спасибо ему, наш участковый Росляков зашёл отдать маме рубль, который был должен. Барабанил так, что, почуяв запах угарный, вышиб нам двери. Понял, молодец! Выволок маму, меня, почти раздетых, валенки надел на нас и водил по дороге туда-сюда. Проветривал. Мама ещё заплетаясь и падая шла, а меня вообще, по-моему, волочили по сугробам, виски и грудь снегом натирали. Но мы очухались. Никогда у меня больше так не болела голова, как наутро. Избушка наша нараспашку стояла и заледенела окончательно. Дальше уже мы спали как на улице. Такая ночка тёпленькая выдалась.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: