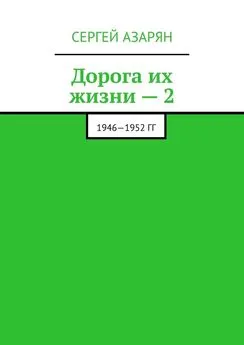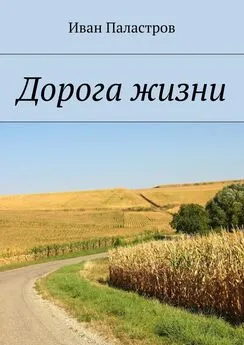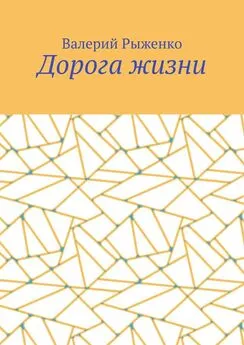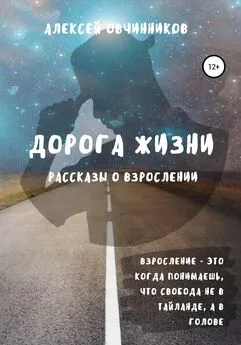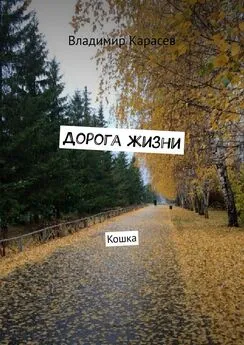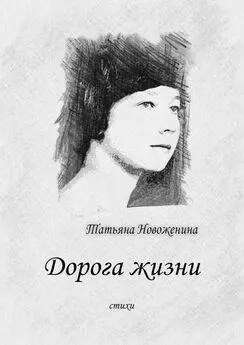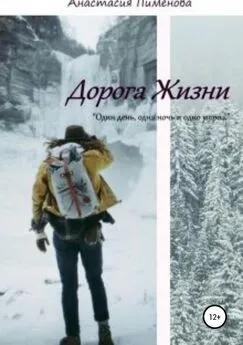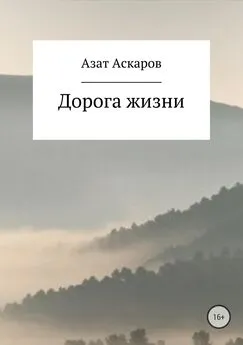Сергей Азарян - Дорога их жизни – 2. 1946—1952 гг
- Название:Дорога их жизни – 2. 1946—1952 гг
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005339348
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Азарян - Дорога их жизни – 2. 1946—1952 гг краткое содержание
Дорога их жизни – 2. 1946—1952 гг - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
* * *
(Время 9 часов 9 минута 29-го марта 1947 года).
Гардман. Заглик. Последняя суббота марта месяца этого года. Семья Арсенянов приготавливаются к торжеству. В этот день была назначена свадьба Миграна Арсеняна и Сона Аветяна. Вся деревня гуляла и поздравляла новобрачных и даже из Йошкар-Олы прибыл Сергей Стариков с сестрой Алевтиной.
После свадьбы, когда Стариков с сестрой должны были возвращаться, в узком семейном кругу, за столом собрались дед Беглар, Арсен, Григорий, Мигран. Они долго
молчали и тихо обедали, дед поднял парчу (типа бокала с серебра) вина и сказал:
– Мои родные, мы провожаем моего внука Сергея, да-да, – твердо сказал дед, а Миро переводил Старикову слова, – он мой внук и пусть он знает, что он родной брат Миграна и Мартироса. За тебя Сережа и пусть сопутствует тебя удача в жизни.
* * *
(Информация к размышлению, продолжение истории). Уже к началу 1930-х годов труд заключённых в Советском Союзе рассматривался как экономический ресурс.
Постановление СНК СССР от 11 июля 1929 года предписывало ОГПУ:
«…расширить существующие и организовать новые исправительно-трудовые лагеря (на территории Ухты и других отдаленных районов) в целях колонизации этих районов и эксплуатации их природных богатств путём применения труда лишённых свободы».
Ещё более чётко отношение властей к заключённым как к экономическому ресурсу выразил Сталин, в 1938 году выступивший на заседании Президиума Верховного Совета СССР и заявивший по поводу существовавшей тогда практики досрочного освобождения заключённых следующее:
«Мы плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения государственного хозяйства это плохо. Нельзя ли дело повернуть по-другому, чтобы люди эти оставались на работе – награды давать, ордена, может быть? А то мы их освободим, вернутся они к себе, снюхаются опять с уголовниками и пойдут по старой дорожке. В лагере атмосфера другая, там трудно
испортиться. Я говорю о нашем решении: если по этому решению досрочно
освобождать, эти люди опять по старой дорожке пойдут. Может быть, так сказать: досрочно их сделать свободными от наказания с тем, чтобы они оставались на строительстве как вольнонаёмные?».
Заключёнными ГУЛага с 1930 года велось строительство ряда промышленных и
транспортных объектов. Труд заключённых использовался также в сельском хозяйстве,
в добывающих отраслях и на лесозаготовках. По данным некоторых историков на ГУЛаг в среднем приходилось 3% валового национального продукта.
* * *
(Время 14 часов 23 минута 30-го августа 1947 года).
Москва. Площадь Дзержинского. Была ясная солнечная погода в столице. Генерал майор Тихомиров в своем кабинете проводил совещание с сотрудниками управления организованного преступления. Зазвонил телефон, он поднял трубку и услышал голос генерала полковника Сафонова;
– Владимир Константинович, заходите ко мне, получена срочная радиограмма из Швейцарии.
– Сейчас буду, – сказал Тихомиров, положил трубку и обратился к сотрудникам, – пока это все, продолжим сегодня в 18.00.
* * *
(Информация к размышлению, продолжение истории). В сравнении с гражданским сектором, труд заключённых был неэффективным, а продуктивность-ничтожной. В частности, руководитель ГУЛага Наседки 13 мая 1941 года писал, что «выработка на одного рабочего в ГУЛаге на строительно-монтажных работах 23 рубля в день, а в гражданском секторе на строительно-монтажных работах 44 рубля». Труд заключённых приносил ничтожный и зачастую очень ненужный ресурс.
Лаврентий П. Берия 9 апреля 1939 г. обратился с письмом к В. М. Молотову, в котором просил увеличить нормы снабжения, заключённых продовольствием и одеждой для повышения производительности их труда;
Существующая в ГУЛаге НКВД СССР норма питания в 2000 калорий рассчитана на сидящего в тюрьме и не работающего человека. Практически и эта заниженная норма снабжающими организациями отпускается только на 65—70 процентов. В связи с этим значительный процент лагерной рабочей силы попадает в категории слабосильных и
бесполезных на производстве людей. На 1-ое марта 1939 года слабосильных в лагерях и
колониях было 200 000 человек, и поэтому в целом рабочая сила используется не выше 60—65 процентов. После войны заместитель министра внутренних дел Чернышев писал в специальной записке, что ГУЛаг просто необходимо переводить на систему,
аналогичную гражданской экономике. Но несмотря на введение новых стимулов,
детальную проработку тарифных сеток и норм выработки, самоокупаемость ГУЛага не могла быть достигнута; производительность труда заключённых была ниже, чем у вольнонаёмных работников, а стоимость содержания системы лагерей и колоний возрастала. В марте 1946 года Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний года вошло в состав МВД СССР.
* * *
(Время 14 часов 23 минута 30-го августа 1947 года).
Москва. Площадь Дзержинского. Когда Тихомиров зашел к Сафонову, тот по
телефону разговаривал с кем-то на немецком языке. После разговора, положив трубку,
он обратился к Тихомирову:
– Владимир Константинович, присаживайтесь, у нас будет долгий разговор.
Пока Тихомиров устраивался возле стола, Сафонов вызвал адъютанта и просил чая. После ухода адъютанта, Сафонов начал;
– Вы поняли я с кем разговаривал, Владимир Константинович.
– Я слышал последние слова, когда Вы попрощались сказав «Вы не волнуйтесь профессор, до свидание» и наверно этот профессор, Шнайдер, – сказал Тихомиров.
– Вы правы, Владимир Константинович, – сказал Сафонов.
Дверь кабинета открылся, вошел адъютант с двумя стаканами чая и сахарницей на подносе, поставил на столе и вышел. После ухода адъютанта Сафонов продолжил;
– Значит, так. Не знаю, как могла эта информация выйти на режу, думаю узнаем…
– Какая информация? – заволновался Тихомиров.
– В пансионате, где отдыхает дочь Шнайдера, какая-то женщина передала письмо ей, сказав, что от отца. Но когда она открыла письмо, там был на немецком языке какой-то текст, фотография жены Шнайдера с дочкой, – сказал Сафонов.
– Ии…
– Дело в том, что профессор, почти каждый день разговаривает с дочкой и зачем ей написать письмо, – сказал Сафонов, взял стакан с чаем выпил пару капель и продолжил, – сегодня она ему передает информацию об этой письме.
– Понятно, Борис Иванович, а женщину нашли?
– Ищут, но не думаю, что найдем, – сказал Сафонов, затем немного подумав, выпил пару каплей горячего чая, продолжил, – текст с письмом завтра будет у нас.
– Хорошо, Борис Иванович, -сказал Тихомиров, – но Вы по телефону мне сказали, что есть информация из Швейцарии. А от кого?
– Да, Владимир Константинович, – сказал Сафонов, из ящика стола вынув бумажную
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: