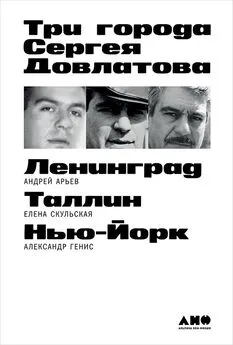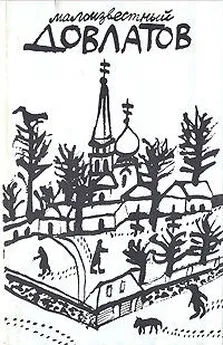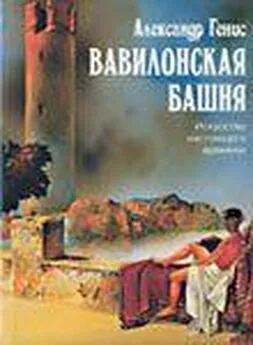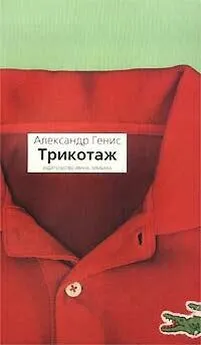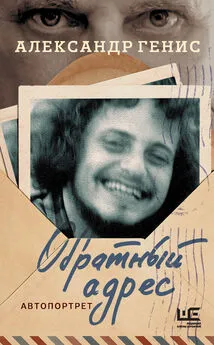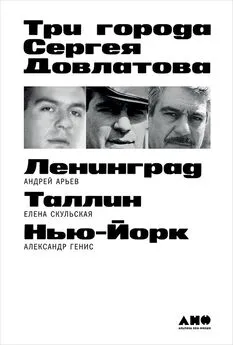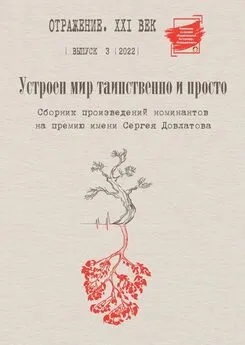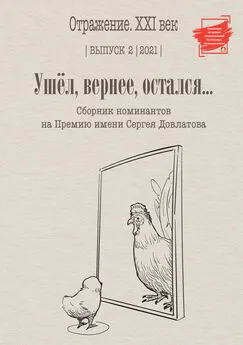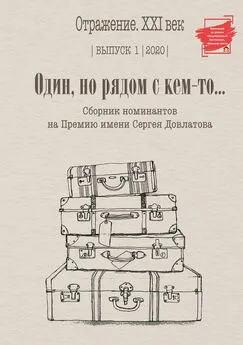Александр Генис - Три города Сергея Довлатова
- Название:Три города Сергея Довлатова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785001393894
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Генис - Три города Сергея Довлатова краткое содержание
Три города Сергея Довлатова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Алиханов встретил ее на пороге. Это был огромный молодой человек с низким лбом и вялым подбородком. В глазах его мерцало что-то фальшиво-неаполитанское. Затеял какой-то несуразный безграмотный возглас и окончить его не сумел.
– Чем я обязан, Лидочка, тем попутным ветром, коего… коего… Достали пиво? Умница. ‹…›
Комната производила страшное впечатление. Диван, заваленный бумагами и пеплом. Стол, невидимый под грудой книг. Черный остов довоенной пишущей машинки. Какой-то ржавый ятаган на стене. Немытая посуда и багровый осадок на фужерах. Тусклые лезвия селедок на клочке газетной бумаги. ‹…›
– Меня за антисанитарию к товарищескому суду привлекали.
– Чем же это кончилось?
– Ничем. Я на мятежный дух закашивал. Поэт, мол, йог, буддист, живу в дерьме… Хотите пива?
– Я не пью. ‹…›
Надзиратель ловко выпил бутылку из горлышка.
– Полегче стало, – доверительно высказался он. Затем попытался еще раз, теперь уже штурмом осилить громоздкую фразу:
– Чем я обязан, можно сказать, тому неожиданному удовольствию, коего…
– Вы филолог? – спросила Агапова.
– Точнее – лингвист. Я занимаюсь проблемой фонематичности русского «Щ»…
В этом отрывке все достоверно, а последняя фраза о «проблеме фонематичности русского „Щ“» еще и документально достоверна. И в то же время все доведено до абсурда. Ибо явленный в рассказе Алиханов «огромный молодой человек с низким лбом и вялым подбородком» и сомнительным внутренним миром в первую очередь автоописание. И если нас с Довлатовым на первом курсе филфака позабавило объявление о защите диссертации «Проблема фонематичности русского „Щ“…», то из этого не следует, что в лингвистике вопрос, является ли русское «Щ» фонемой, академически не правомерен. Не нужно объяснять: для нас, несведущих первокурсников, он показался курьезным. Тем более таковым он глядит в интерьере с селедкой и лыка не вяжущим персонажем.
Рассказ «Ищу человека», лишенный заглавия, но с врезкой, отсылающей к «Вечернему Таллину» за март 1976 года, напечатан как «Компромисс шестой» «эстонской» книги Довлатова. Однако он даже по части «местного колорита» такой же «таллинский», как и «ленинградский». Житель каждого из этих городов легко может представить его сюжет своим, а его героиню – знакомой из соседнего подъезда. Притом что толчком к созданию этого образа послужили перипетии жизни вполне конкретной приятельницы автора, обитавшей по конкретному адресу лишь одного из двух городов.
Аутсайдеры Довлатова – лишние в нашем цивилизованном мире существа. Лишние – буквально. Они нелепы с точки зрения оприходованных здравым смыслом критериев и мнений. И все-таки они – люди. Ничем не уступающие в этом звании своим интеллектуальным тургеневским предтечам.
Трудно установить, отреклись довлатовские герои от социальной жизни или выброшены из нее. Процесс этот взаимообусловлен. Тонкость сюжетов прозаика на этом и заострена. Довлатов ненавязчиво фиксирует едва различимую в бытовых обстоятельствах границу между отречением и предательством. Отречением от лжи. И предательством истины.
Большинство выявленных и невыявленных конфликтов довлатовских историй – в этом пограничном регионе. Они проецируются и на литературную судьбу прозаика, и на судьбу других изгнанных или выжитых из России талантливых художников застойных лет. Чаще всего не по собственному разумению, а под идеологическим нажимом они перебирались на Запад. Анонимные «вышестоящие мнения» имели тенденцию неуклонно закручиваться в конкретные «персональные дела». Аморальная сущность предпринятого натиска ясна. Ясен и смысл всех этих акций. Творческую интеллигенцию, отрекавшуюся от неправедных взглядов и действий, цинично зачисляли в предатели.
Чувствительность Довлатова к уродствам и нелепостям жизни едва ли не гипертрофирована. Однако беспощадная зоркость писателя никогда не уводит его в сторону циничных умозаключений. Это определяющая всю довлатовскую прозу черта.
Я бы назвал Довлатова сердечным обличителем.
И не его вина, если способность высказывать горькую правду с насмешливой улыбкой так раздражает людей. Блюстителей порядка улыбка раздражает яростнее, чем сама истина в любом ее неприглядном виде.
Еще в бытность свою в Ленинграде Сергей признался как-то, что для него вполне обыденная реплика из Марка Твена – «Я остановился поболтать с Гекльберри Финном» – полна неизъяснимого очарования. Он даже собирался сделать эту фразу названием какой-нибудь из своих книг. Да и сам был склонен остановиться поболтать с каждым, кто к этому готов. Беззаботная речь случайного собеседника влекла его сильнее, чем созерцание сокровищ Эрмитажа или Метрополитен-музея. Безыскусно умозаключая, скажем: зрение прозаика было всецело сконцентрировано на «натуре». Тут Довлатов даже позволял себе пафос – исключительный для него случай (предусмотрительно все же закавыченный): «Натура – ты моя богиня!» Фокус, однако, в том, что пафос этот, соответствуя состоянию, в котором находится герой рассказа «Ищу человека», в целостном контексте довлатовской прозы максимально снижен. В «Заповеднике» эта, восходящая к Шекспиру, фраза автором комментируется – и недвусмысленно: «„Природа, ты – моя богиня!“ Впрочем, кто это говорит? Эдмонд! Негодяй, каких мало…»
Замечательна лингвистическая тонкость, подтверждающая исключительное языковое чутье Довлатова. В данном случае она выражена в предпочтении, отданном переводу с английского слова «nature». В устах персонажа из рассказа слово имеет психологическую нагрузку, говорит о характере, нраве героя, превозносящего человеческую «натуру» как таковую. В «Заповеднике» же фраза принимает скорее натурфилософский характер, говорит о «природе» в целом. Плюс к тому, как заметил Александр Генис, вторит декламации чеховского Гаева из «Вишневого сада»: «О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы зовем матерью…» И т. д.
Довлатовская речевая стихия, любят обмолвиться близко его знавшие, дружившие с ним люди, якобы была выразительнее всего лишь перенесенных на бумагу затверженных импровизаций, «пластинок», как сказала бы Ахматова.
Да, живая человеческая речь вроде кровеносной системы довлатовской художественной прозы. На придание ей повествовательного ритма, на облачение в плоть, в запечатленную образность, затрачены недюжинные художественные способности. Не просто затрачены, на это ушли огромные душевные силы – доказать, что автор не байки рассказывает, а пишет смыслопорождающую, проницающую суть «нашей маленькой жизни» прозу.
Не счесть златоустов – вдохновленных успехами Довлатова в том числе, – пишущих с голоса. Нынче такого рода непринужденная манера для многих литераторов стала «творческим методом» – наговор переносить на бумагу, которая «все стерпит». Однако у рассказчиков, взявших за образец прозу автора „Зоны“ и „Заповедника“, при незадачливом переводе устной речи в письменную вместе со звуками речи из текста улетучивается главное: авторское переживание. Все их занимательные истории в напечатанном виде решительно проигрывают довлатовским. В них не обнаружишь ни воли к работе со словом, ни чувства меры, ни гармонической точности выражения, ни иронического литературного подтекста – всего того, что заставляет писателя держаться собственного русла, ни на йоту не уклоняясь от ответа на дарованные судьбой – и ею определенные – вопросы. Это важно осознавать, ибо «феномен довлатовской прозы» лишь в малой степени объясняется самой по себе искрометной непроизвольностью суждений, на которые прежде всего обращают внимание.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: