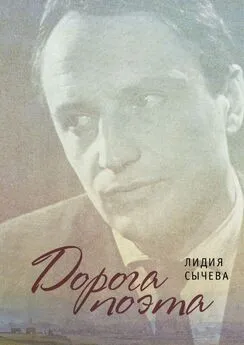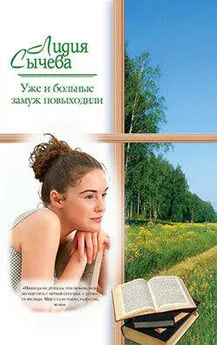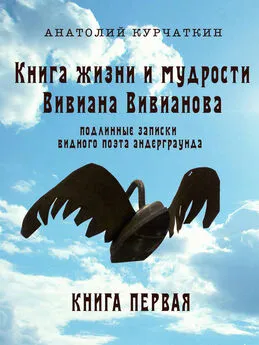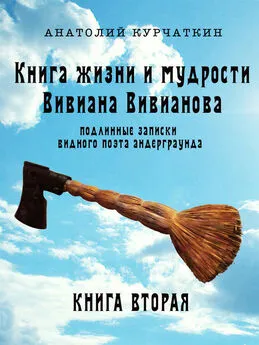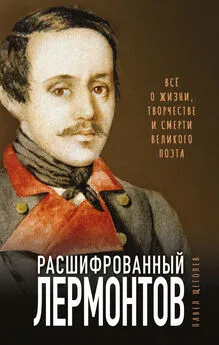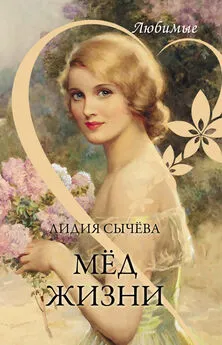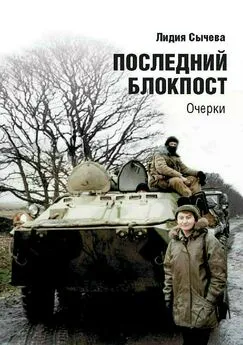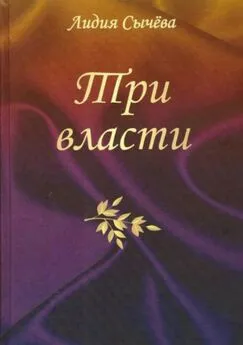Лидия Сычева - Дорога поэта. Книга о жизни и творчестве
- Название:Дорога поэта. Книга о жизни и творчестве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449067050
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лидия Сычева - Дорога поэта. Книга о жизни и творчестве краткое содержание
Дорога поэта. Книга о жизни и творчестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1954 году, в красном уголке большого прокатного цеха ЧМЗ, Валентин Сорокин впервые увидит поэтессу Людмилу Константиновну Татьяничеву. Она рассказывала собравшимся о книжных новинках тех лет, о поэзии. После читала свои стихи. Молодому рабочему очень хотелось подойти к Татьяничевой, признаться, что он тоже очень любит стихи, пытается писать сам, но что-то удержало его от этого шага.
Уже брезжили «оттепельные годы», и бурные волны литературного моря заволновались, загуляли от берега до берега, из Москвы долетали строфы «трибунов», в чем-то неестественные, часто помпезные, и почти всегда с какой-то особенной нервозностью, такой, что будоражила молодое воображение, но и не разрешала полностью принять и слово, и чувство, высказанное в стихотворении.
Границы мне мешают…
Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса,
Нью-Йорка,
Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,
со всеми говорить —
пускай на ломаном.
Это – 1955 год, стихи Евгения Евтушенко. А каким был в то время Валентин Сорокин? Писатель Николай Воронов, уралец, вспоминает:
– Я жил в Магнитогорске, а Валентин Сорокин в Челябинске. Меня назначили редактором альманаха «Южный Урал», который никто не читал и не покупал. Я принял альманах, изменил название – альманах стал именоваться «Уральской новью» и приехал в Челябинск, чтобы найти авторов. Мне дали папку с рукописями, я читаю стихи и вдруг вижу: большой талант! Редкий талант. Спрашиваю у руководителя писательской организации: что это за парень, Валентин Сорокин? А это, говорит, человек, который работает на мартене. Сегодня как раз у него ночная смена, он носит сталь, чугун в огненных ковшах на своем кране. А работа эта страшная была, страшная… Я говорю: можно ли его повидать? Руководитель писательской организации звонит начальнику цеха и говорит: пусть Валентин Сорокин придет после работы.
И вот входит молодой человек. Лицо у него, как у всех металлургов, людей, имеющих дело с огнем, цвета перекаленной меди – с нездоровой краснотой. Ведь помимо того, что эта была опасная работа – он в любой момент мог погибнуть, в любой момент, эта работа еще и очень вредная для здоровья. И я вижу, как у него в бровях блестят порошинки графита…
Опасная работа на вредном производстве для человека с обостренным чувственным восприятием мира должна была либо сломать его, либо закалить, выковав в нём бесстрашие героя.
…Примерно в это же время в руки Валентина Сорокина попала небольшая книжечка стихов Василия Фёдорова. Первое чувство: удивление: новое, незнакомое имя, а сколько родного, близкого и дорогого в стихах!
Скрипят натруженные снасти,
В корму волна сердито бьет…
Купец Никитин Афанасий
Из дальней Индии плывет.
Плывет Афанасий Никитин домой, возвращается. И молодой поэт, Валентин Сорокин, сквозь лязг могучих кранов, гул раскаленных печей мартена возвращается к себе. Хорошо, что есть Есенин – там, вдали. (В 1961-м году, в стихотворении «До́ма», поэт признается: «Опять в квартире тихой, До третьих петухов Склоняюсь я над книгой Есенинских стихов». ) Но еще лучше, когда в современнике, ныне живущим, ты почувствуешь то, чем и сам маешься, что долго не решаешься высказать, а высказывая, почти плачешь… Это – материнский язык наш. А еще – чувство. Которому и название трудно подобрать: что-то святое, доброе, сильное, неодолимое!..
Книги Василия Федорова в конце 50-х – начале 60-х выходили редко и маленькими тиражами. Сорокин выменивал их у тех, кто копил на полках популярные сборники «оттепельных» поэтов. Он удивлялся: почему Василия Федорова нет на радио и телевидении, почему о поэте молчит литературная критика, почему его поэмы не печатают тиражные газеты… Много позже, в книге «Благодарение» Валентин Васильевич напишет: «Немного у каждого из нас, пишущих, есть любимых учителей, кто когда-то подал нам руку. У меня таким учителем был Василий Федоров. Я с благодарной радостью говорю об этом. Ведь уважать идущего впереди – ясная и благодарная радость!»
Десять лет Валентин Сорокин – с 1953 по 1963 год – проработает в 1-м мартене. Десять очень тяжелых, опасных, мучительных, счастливых – есть молодость и много сил! – лет. В 1954-м, тоскуя, напишет:
Деревенский, вдумчивый и скромный,
Я в душе нетронутой принес
Площадям и улицам гудронным
Запахи малины и берез.
В резвую гармонику влюбленный,
Я не раз украдкой тосковал
Во дворцах, где люстры и колонны,
Где звенел оркестром карнавал.
И ничьей рукой не избалован,
Видел я за сталью и огнем —
Мой подсолнух
золотоголовый
Наклонился дома над плетнем…
Ему было 18 лет. С тех пор прошла целая эпоха! Но стихи всё так же удивляют «прочностью» слова, красотой выражения и чувства.
Городское благополучие с дворцами, люстрами и колоннами, заработанное тяжким трудом («ничьей рукой не избалован»), не заслонило первые впечатления детства – запахи малины и берез. Потому резвая гармоника милей оркестра на шумном карнавале. А образ родины не есть ли образ самого поэта?! «Мой подсолнух золотоголовый Наклонился дома над плетнем…».
Деревенский юноша владеет сокровищем, которое с лихвой перекрывает все богатства городского общежития с люстрами и дворцами. Душа человеческая («Я в душе нетронутой принес») – главная драгоценность мира. Город встретил поэта «сталью и огнём», а ведь он принёс сюда самое дорогое, что у него было – образ родины, связанный, сплетённый («над плетнём») с образом матери («запахи малины» – сада и огорода), и отца («резвая гармоника»)!.. Молодой поэт уже знает о себе, что его творчество всегда будет питаться соками родной земли, знает, что дар его – «мой подсолнух золотоголовый» – чудесный, бесценный, с иконным нимбом, расцветёт ярко и зримо, и что его «земной поклон» всегда будет в сторону дома, родины.
Стихотворение – как выдох, оно написано без какого-либо видимого усилия. Но в нём нет элегического начала, лишь горькое удивление юноши – оказывается, вся жизнь – тяжкое испытание, но как трудно принять крестное страдание нетронутой душе!
Гармоничному деревенскому миру противостоит город с колоннами и площадями (вечным Римом и библейским Вавилоном веет от этих слов). Гудронные улицы – примета советской тяжелой индустрии, построенной за счет крестьянского «ресурса». И в этот жесткий асфальтовый мир входит молодой поэт. Входит, грустя: уцелеть ему здесь будет непросто.
Но стихи – не о столкновении деревни и города. Поэты-ровесники скажут об этом позже. Анатолий Передреев, «Околица», 1964:
Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.
Интервал:
Закладка: