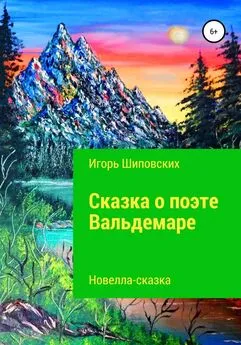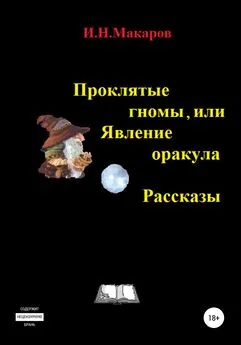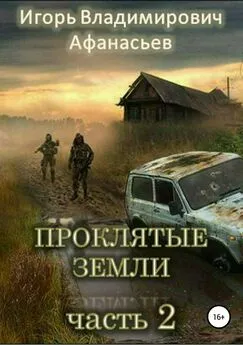Игорь Гарин - Проклятые поэты
- Название:Проклятые поэты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Харьков
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Гарин - Проклятые поэты краткое содержание
В этой книге читатель сможет проследить жизненные перипетии и поэтические искания великих поэтов Франции XIX века, художественные открытия которых оказали определяющее влияние на развитие мировой поэзии в целом, в том числе – на поиски и достижения русских символистов Серебряного века.
Проклятые поэты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Искусство, поэзия самодостаточны: все необходимые ресурсы они черпают из самих себя.
Искусство есть область автономных форм; после заката метафизики им уже не правят никакие высшие инстанции; но поскольку оно вырастает из внутреннего – донаучного – опыта, ему можно, пожалуй, еще обоснованнее, чем раньше, приписывать религиозный смысл.
По Кузмину, задача поэта – молиться своему Богу, но делать это хорошо.
Поэзия – одна из высших форм одухотворения, озаряющего магическим светом внутреннее видение поэта. Отсюда ее теургия, ее божественность.
Для символистов поэзия была религиозным действом – магическим актом творения и покорения действительности. Поэтическому языку придавались теургические свойства: магичность, энергия, действенная сила. Вяч. Иванов писал, что еще эллины перенесли представление о «языке богов» на язык поэзии.
Символизм в новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, присвоивших некогда словам всенародного языка особенное, таинственное значение… Они знали другие имена богов и демонов, людей и вещей, чем те, какими называл их народ, и в знании истинных имен полагали основу своей власти над природой.
Слово-символ обещало стать священным откровением… Художникам предлежала задача цельно воплотить в своей жизни и в своем творчестве… миросозерцание мистического реализма или – по слову Новалиса – миросозерцание «магического идеализма».
В «Магии слов» Андрей Белый разделяет «слово-термин», бытующее в языке общения или науки, и «слово-символ» – поэтическое, образное слово, «музыку невыразимого». Поэтическое слово он называет «живым и действенным», термин – «мертвым словом». Первое – «слово-плоть», «воплощенное слово», второе – тотальная, массовая речь. «Живую речь» поэзии, дающую поэту-жрецу магическую власть над миром, он уподобляет «священному наречию», языку, на котором «были даны человечеству высочайшие откровения».
А. Белый:
Но живое, изреченное слово не есть ложь. Оно – выражение сокровенной сущности моей природы; и поскольку моя природа есть природа вообще, слово есть выражение сокровеннейших тайн природы.
А. Жид:
Поэт – человек, умеющий смотреть. Что же он видит? – Рай.
Ибо Рай – повсюду; не стоит доверяться чувственным видимостям. Видимости – это воплощение несовершенства, а потому они способны лишь невнятно проговаривать сокрытые в них истины. Что же до Поэта, то ему надлежит расслышать эти истины с полуслова – и возвестить их в полный голос. А Ученый? Он ведь тоже открывает архетипические первообразы вещей и законы, ими управляющие; он пересоздает мир, доходя до идеальной простоты, связывающей формы наиболее естественным образом.
Правда, открывая эти изначальные формы, Ученый предварительно перебирает множество конкретных примеров, двигаясь медленным, индуктивным путем; ему нужна доказательность, и потому, имея дело с чувственными феноменами, он не позволяет себе произвольных догадок.
Поэт же – творец, и ему это ведомо; вот почему любая вещь для него – это повод для догадки, символ, способный явить свой идеальный первообраз; Поэт знает, что чувственные феномены – только предлог, только внешний покров, на котором и останавливается взгляд непосвященного; под покровом, однако, скрыт первообраз, все время как бы нашептывающий: Я здесь.
Поэт благоговейно созерцает символы, в безмолвии склоняется над ними, стремясь проникнуть в самое сердце вещей; и когда, словно ясновидящему, ему открывается наконец Идея, равно как и сокровенное, мировое Число ее Бытия, лишь воплощенное в несовершенной форме, – тогда Поэт впивает эту Идею и, не заботясь более о той тленной форме, в которую облекло ее время, придает ей новую, подлинную, бессмертную, одним словом, от века предназначенную форму – форму райскую и прозрачную, словно кристалл.
Собственно говоря, произведение искусства – это и есть кристалл – крошечное воплощение Рая, где Идея расцветает во всей своей вышней чистоте, где, словно в утраченном Эдеме, все формы, подчиняясь силе естественной необходимости, пребывают в полном единосогласии, где слова не одержимы гордыней и не заслоняют собой мыслей, где ритмически точные, уверенно-твердые фразы, эти символы, доведенные до чистоты, обретают прозрачность и глубину.
Подобно кристаллам, такие произведения способны вырастать лишь в безмолвии; впрочем, безмолвствовать можно даже в толпе; это случается, когда художник – таков Моисей на горе Синае – отрешается от бренных вещей, от времени и, вознесясь над суетой мира, словно погружается в светозарное облако. В нем медленно вызревает Идея и однажды, воссияв, расцветает вековечным цветком. Она не принадлежит времени и ему неподвластна, а потому решимся на предположение: если Рай находится вне времени, то не относится ли само его существование к сугубо идеальному измерению?..
Иннокентий Анненский считал поэзию принципиально неопределимой и не требующей определения: «Разве есть покрой одежды, достойный Милосской богини?»
Кажется, нет предмета в мире, о котором бы сказано было с такой претенциозностью и столько банальных гипербол, как о поэзии.
Один перечень метафор, которыми люди думали подойти к этому явлению, столь для них близкому и столь загадочному, можно бы было принять за документ человеческого безумия.
Идеальный поэт поочередно, если не одновременно, являлся и пророком, и кузнецом, и гладиатором, и Буддой, и пахарем, и демоном, и еще кем-то, помимо множества стихийных и вещественных уподоблений. Целые века поэт только и делал, что пировал и непременно в розовом венке, зато иногда его ставили и на поклоны, притом чуть ли не в веригах.
По капризу своих собратьев, он то бессменно бренчал на лире, то непрестанно истекал кровью, вынося при этом такие пытки, которые не снились, может быть, даже директору музея восковых фигур.
Этот пасынок человечества вместе с Жераром де Нервалем отрастил себе было волосы Меровинга и, закинув за левое плечо синий бархатный плащ, находил о чем по целым часам беседовать с луною, немного позже его видели в фойе французской комедии, и на нем был красный жилет, потом он образумился, говорят, даже остригся, надел гуттаперчевую куртку (бедный, как он страдал от ее запаха!) и стал тачать сапоги в общественной мастерской, в промежутках позируя для Курбе и штудируя книгу Прудона об искусстве. Но из этого ничего не вышло, и беднягу заперли-таки в сумасшедший дом [3] Здесь И. Анненским дан собирательный образ поэта, в котором угадываются черты нескольких реальных поэтов: Теофиля Готье (1811–1872) – « немного позже его видели в фойе Французской комедии, и на нем был красный жилет »; Шарля Бодлера (1821–1867) – « в промежутках позируя для Курбе » – известен портрет Бодлера работы Г. Курбе (1848); в лечебнице для душевнобольных умер Жерар де Нерваль (1808–1855), как и Ш. Бодлер.
. Кто-кто не указывал поэту целей и не рядил его в собственные обноски?
Интервал:
Закладка: