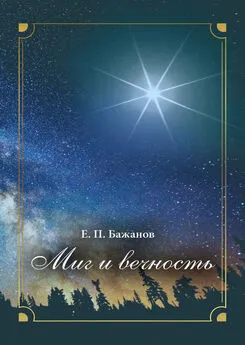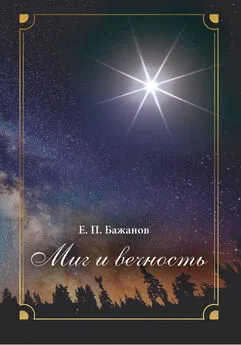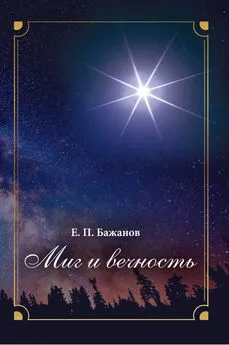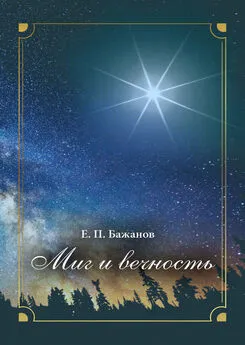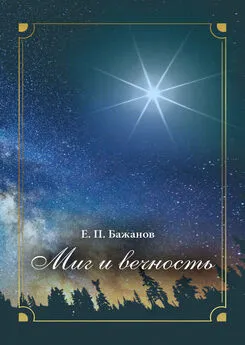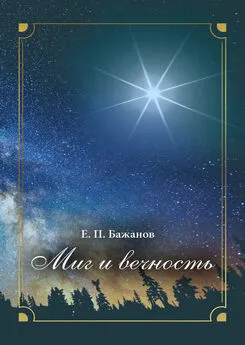Евгений Бажанов - Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 1. Часть 1. Крупицы прошлого. Часть 2. В плавильном котле Америки
- Название:Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 1. Часть 1. Крупицы прошлого. Часть 2. В плавильном котле Америки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-394-02700-0, 978-5-394-02701-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Бажанов - Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 1. Часть 1. Крупицы прошлого. Часть 2. В плавильном котле Америки краткое содержание
Первый том состоит из двух частей. В части 1 рассказывается о семейных корнях Наташи, о ее родных, о тех, кто вырастил девочку и сформировал ее как личность, об учебе Наташи в школе и в институте, о создании ее семьи с Е. Бажановым, первых этапах жизни этой семьи.
В части 2 описывается пребывание Натальи и Евгения Бажановых в США в 1973–1979 годах в качестве дипломатических сотрудников Генерального консульства СССР в Сан-Франциско. Представлено видение заокеанской «сверхдержавы» – ее истории, политической системы, экономики, общества, культуры, религии, науки, образования, спорта, внешней политики.
Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 1. Часть 1. Крупицы прошлого. Часть 2. В плавильном котле Америки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Жилищные условия я уже упоминала. И в Грохольском переулке, и на Котельнической набережной комнаты были крохотными, тем не менее, часто и подолгу нужно было помещаться в них втроем, так как в Москву приехала учиться в институте папина сводная сестра. Думаю, что маме это было трудновато, ибо характеры у них абсолютно полярные.
Мама уже с молодости была устроена так, что всем надо помогать, максимально, что можешь, отдавать и т. д. У тети Вали все это было несколько иначе, она наоборот считала должным, чтобы ей во всем помогали, давали. Видимо, это было связано с тем, что рано осталась сиротой, ведь папин и Валин отец умер очень рано. Необходимость выживания сироты формировала склад личности на будущее. А моего папу, своего брата, она, очевидно, по всем направлениям воспринимала как замену отца.
Мама с тетей Валей жили мирно, но взаимопонимания полного не было, а отсюда не сложилась теплота внутренних родственных связей, хотя, как я помню, и дальше всю жизнь мама ей помогала – она все это как должное принимала. Но такова «селяви».
Я сейчас иногда слышу, что любовь – это когда ты готов (и делаешь это) все свое отдавать тому, кого любишь. Да, это так, но с продолжением. А продолжение – это взаимность. Если ее нет, то любовь или становится патологией страдания, донорством до последней капли, или любящего без взаимности просто используют и пользуются им как «вещью» постоянно «и в хвост, и в гриву». И любовь, и дружба – это обязательно взаимные отношения, этакий обмен духовной, душевной, физической энергией. В противном случае, когда ты постоянно отдаешь или постоянно берешь, – это аномалия человеческих отношений. Вот в этих случаях о любви говорят, что это болезнь.
На самом же деле, любовь – это самое прекрасное и высшее чувство человека. Отношения любые, включая родственные, строятся только на взаимности, если они нормальны. Как же часто мы, не понимая, не замечая этого, просто пользуемся людьми, эксплуатируем их, ничего не давая взамен, а все это ведет к трагедии. В таком понимании нет ничего общего с бухгалтерией, с дебитом и кредитом, это, по-моему, просто понимание закона существования здоровой, обоюдопрекрасной любви.
Но я, кажется, отвлеклась, но от души. Итак, что же еще я помню из маминых рассказов о жизни на Грохольском (так говорили дома). Лидия Тарасовна похваливала маму за то, что мама к приходу мужа (папы моего) всегда причесана, аккуратно, красиво по-домашнему одета. Одобрение Василевской таких манер, видимо, корнями исходило из ее не рабоче-крестьянского происхождения. Роюсь в памяти, пишу и сокрушаюсь, как мало я знаю о жизни родителей до моего рождения! Хотя… и эти крохи позволяют в какой-то степени воссоздать общую картину.
Сравнительно незадолго до моего рождения папе наконец-то была выделена жилплощадь – это была крохотная комнатка в старом доме в коммунальной квартире на Котельнической набережной, напротив через Москва-реку от Кремля. Жизнь в этой коммуналке была, видимо, типичной для Москвы тех лет. Соседи могли друг у друга подворовывать на кухне картошку, чай, другие продукты.
Мама же, не привыкшая к жизни в общей квартире, проявляла наивность. Так, однажды она обнаружила, что соседка ушла куда-то в мамином плаще. Потом, когда мама, набравшись духу, спросила ее об этом, она призналась, сказала, что очень нужно было, так как она шла на свидание с молодым человеком. Плащ был возвращен.
Родители постепенно «обрастали» друзьями. Это и знакомые по Баку, перебравшиеся в Москву, и новые папины коллеги по работе, среди которых особое место занимала большая семья Коротеева Ивана Павловича, замминистра морского флота в те годы. Упоминаю именно эту семью не случайно. Наступал 1947 год, встреча которого была намечена именно у них на Проспекте Мира, где они жили в очень большой (по тем временам), красивой квартире. Я вот-вот должна была родиться, но тем не менее мама пошла на встречу Нового 1947 года и даже в гостях отплясывала.
А 4 января, кажется, около 11 часов утра, родилась я в роддоме в Денежном переулке (это маленькое здание, расположенное за МИДом, упоминаю об этом, так как волею судеб жизнь в дальнейшем, будет связана с МИДом). В связи с предстоящими родами мимы из Баку приехала бабушка – помочь. Когда миму отпустили из роддома, патронажные сестры так старательно меня пеленали и кутали из-за сильного мороза на улице, что домой меня привезли полузадушенной, полусиней, по словам мимы и бабушки. Развернули дома и ахнули, начали «откачивать» младенца. Мама испугалась, даже закричала. Но все обошлось. С этого момента в крохотной комнатке на Котельнической набережной пришлось ютиться четверым: мима, папа, бабушка и я».
Теперь возвращаюсь к воспоминаниям Тамары Григорьевны. В том же 1947 году она с супругом Георгием Антоновичем и четырехмесячным сыном Володей [8] Володя родился в немецком городе Вюртемберге.
, будучи проездом из Германии, гостила у Корсаковых. В комнате было тесно, поэтому хозяева, Евгений Павлович и Нина Антоновна, ночевали у соседей, которые располагали двумя или даже тремя комнатами.
Из Москвы в Баку отправились в сентябре 1947 года впятером: к семье Юрия Антоновича присоединилась Антонина Тихоновна с девятимесячной Наташей. Нина Антоновна только отняла ее от груди и просила Тамару Григорьевну, если понадобится, дать малютке молоко. У Тамары Григорьевны его было много.
По какой причине Наташу увезли от родителей в Баку? Версий несколько. Натуля пишет, что мама сломала ногу. Тамара Григорьевна в одном из разговоров упомянула легочную болезнь у Нины Антоновны, с которой климат не позволял проживать в Баку. В другом – отметила, что Антонина Тихоновна очень хотела создать дочери комфортные условия для светской красивой жизни. В Москве была няня, но ее прогнали, поскольку она плохо выполняла свои функции.
В Баку Наташенька провела первые восемь лет своей жизни, окончила там первые два класса средней школы. Год училась в русском отделении азербайджанской школы, затем год в русской школе. Баку и Азербайджан остались для моей жены любимым местом. Всякий раз, когда ей что-то нравилось в самых разных уголках земного шара – цветник в Сан-Франциско, воздух в Новой Зеландии, роскошный дом в Париже, музыка в Иране – Наташа восторженно восклицала: «Ну, это прямо как в Баку!». Каждая встреча – с любым азербайджанцем-продавцом на подмосковном рынке, официантом в ресторане «Баку» на Кутузовском проспекте, попутчиком в самолете, профессором Бакинского университета – начиналась и заканчивалась настоящим братанием, Наташиными признаниями в любви к Азербайджану и азербайджанцам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: