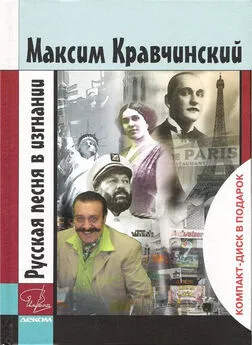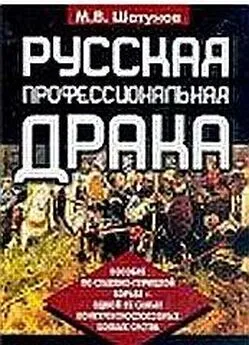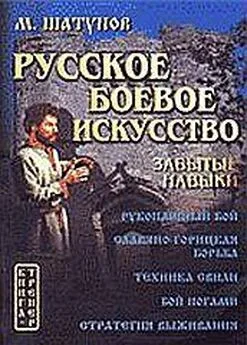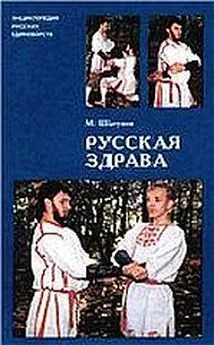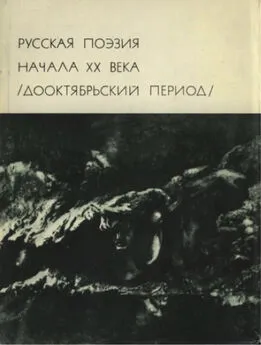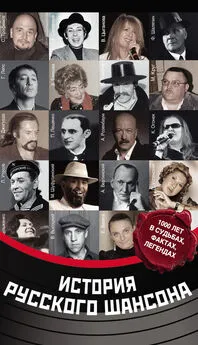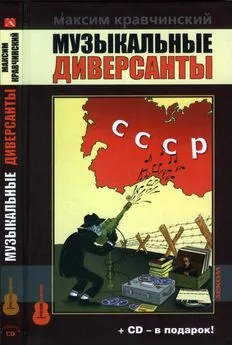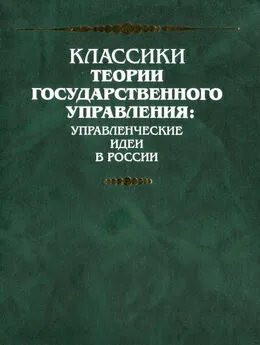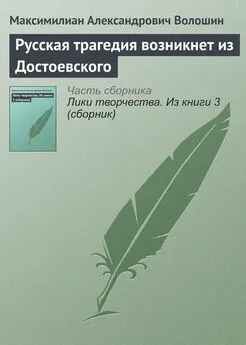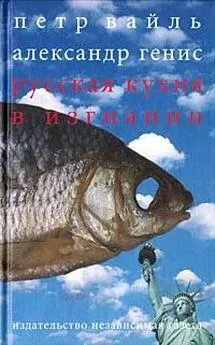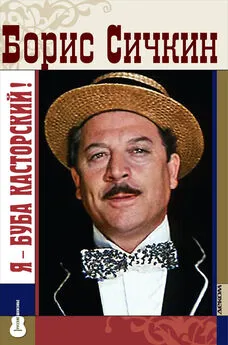Максим Кравчинский - Русская песня в изгнании
- Название:Русская песня в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2007
- Город:Нижний Новгород
- ISBN:978-5-89533-165-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Кравчинский - Русская песня в изгнании краткое содержание
Русская песня в изгнании - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Череда великих и трагических событий на «исторической родине» в ХХ веке порождала стойкий интерес к «этим странным русским» в остальном мире, рикошетом возвращалась мода на «русскую экзотику» к «эмигрантам», позволяя им выживать и развиваться, а их песни, попадая к нам, замыкали цепочку связи с покинутой отчизной.
Рассказ о пестром мире эмигрантских шансонье начнем с гениального и неповторимого А. Н. Вертинского, чьи творения проверены временем и давно вошли в алмазный фонд русской культуры.
Первый
В парижских балаганах, в кафе и ресторанах,
В дешевом электрическом раю,
Всю ночь, ломая руки, от ярости и скуки,
Я людям что-то жалобно пою… [1] Здесь и далее, если не указано дополнительно, авторство эпиграфа принадлежит герою конкретной главы или является строчкой песни из его репертуара.
Петр Лещенко, Юрий Морфесси, Алла Баянова, Надежда Плевицкая, Иза Кремер, Поляковы, Жорж Северский – вот самые яркие звезды первой волны.

Александр Вертинский во время Первой мировой войны
«Старшим братом» в этой плеяде по праву считается Александр Николаевич Вертинский. Он родился в Киеве в 1889 году, рано потерял родителей. В юности освоил гитару, пел «цыганские романсы», пытался сочинять сам. Начинал как автор коротких рассказов, публиковался в журналах, снимался в массовке. В 1913 году поступил на службу в небольшой театр миниатюр в Москве, где пришел первый успех, но началась мировая война. Вертинский под именем Брата Пьеро два года провел медбратом в санитарном поезде. За время службы Александр повзрослел, расстался с пагубной привычкой к кокаину, с которым у него был бурный «роман» перед войной. Кстати, старшая сестра Вертинского Надежда, не сумев разобраться в личных проблемах, умерла в 1914 году от передозировки этого наркотика.
Собирая материалы для книги в зарубежных архивах, я неожиданно наткнулся на воспоминания некоего Георгия Пина, впервые опубликованные в журнале «Шанхайская заря» (№ 1301 от 16.02.1930 г.) под названием «Антоша Бледный. Воспоминания москвича». По невыясненным причинам автор упорно называет Александра Вертинского Антоном, но своей художественной и мемуарной ценности от небольших неточностей эти заметки, на мой взгляд, не теряют.
Из-за их безусловной редкости и экстремального содержания я решил, что будет правильно привести данный текст без купюр.

Антошу Бледного знала вся почти московская богема среднего пошиба: студенты, статисты театров и кино, хористы и хористки, газетные сотрудники, игроки и вся веселая гуляющая полуночная братия.
Высокая худая, но веселая, стройная фигура, Антошин тонкий профиль лица, серовато-голубые с поволокой глаза, непринужденность, обходительность и манеры, указывающие на воспитание, запоминались тем, кто встречался с ним в полумраках всевозможных ночных кабачков, пивных и московских чайных, за пузатыми и солидными чайниками, базарными свежими калачами и булками, за «выпивоном с закусоном», за разговорами и бестолковыми спорами.
Антоша Бледный издавна был завсегдатаем этих мест, он врос как бы в них своей фигурой, и если когда-либо случалось, что он отлучался из Москвы на несколько недель или даже дней – то отсутствие его замечалось.
О нем спрашивали, его разыскивали, а когда он неожиданно появлялся опять, засыпали градом вопросов и радостных удивлений.
– Антоша!.. Друг!.. Откелева?.. Живой?.. Садись. Уже сегодня-то ты на-а-аш!..
Жизнь Антоши в течение многих лет протекала таким вот образом и без каких-либо изменений к лучшему.
Фактически другой специальности, кроме беспременных участий в кутежах, компаниях и проч., у Антоши не только не было, но и на долгое время не намечалось.
Он очень нуждался всегда, и нередко бывали случаи, когда шатался он без крова, ночуя по знакомым. Правда, номинально он имел даже службишку – поденного статиста в киноателье Ханжонкова, и иногда москвичи безразлично наблюдали за появлением знакомой Антошкиной фигуры в той или иной из выпущенных ателье фильмов, где он исполнял всегда безличные роли.
Необычно было видеть его в числе свиты какого-либо короля, князя или графа, облаченным в парадную форму кавалергарда, в числе гостей на придворном балу, затянутым в шикарный фрак с белоснежным жилетом и в цилиндр; или еще в каком-либо картинном эпизоде.
– Его!.. Антошку!.. – которого вся почти Москва не видала никогда ни в чем, кроме длинных потрепанных сероватых суконных брюк и такой же рубашки-толстовки с ярким галстуком.
Этот костюм дополняли потертая фетровая шляпа и излюбленная папироса «Ю-Ю» фабрики Шапошникова за шесть копеек десяток.
Антошу прозвали Бледным. Почему? Надо сказать, что он вполне оправдывал свое прозвище и был в действительности таким: настолько бледным, что на первый взгляд казалось, будто посыпано его лицо толстым слоем пудры.
Причина бледности крылась в злоупотреблении наркотиками. Кокаин он употреблял в исключительном количестве. Рассказывали, будто грамма чистейшего «мерковского» кокаина хватало ему не более как на одну-единую понюшку. Нюхал он его особым, «антошкиным» способом, изобретенным им самим, чем он искренне тогда гордился, и уже потом получившим широкое распространение. Грамм кокаина Антошка аккуратно разделял на две половины. Затем вынимал папиросу, отрывал от нее мундштук, вставлял его сначала в одну ноздрю, вдыхал через него одну половину порошка, растирал старательно после понюшки все лицо, потом то же самое проделывал с левой стороной носа.
Были, как водится, и недостатки у Антоши, но, в общем, его любили, и знакомые из кожи вон лезли, чтобы угостить его, угодить ему. Антоша угощался не стесняясь: пил, ел, кутил и развлекался. Но, развлекаясь, развлекал и других: был остроумен, полуприличен, себя, как говорится, не пропивал и… безумно нравился женщинам.
Он был ласков, задушевен, нежен, покорен, уступчив и… грустен подчеркнутой «романтической» грустью, грустью этой он мог растрогать любую женщину и с нею вместе тут же поплакать о промелькнувшем, утраченном счастье, о чем-либо несбыточном, о далеком…
А когда Антоша «занюхивался», он… пел. Собственно, даже не пел, а полу-пел, то есть, точнее, больше декламировал, чем пел, и лишь в самых ударных и чувствительных местах с надрывом брал высокие певучие ноты. Голоса у него было немного, но слушатели находились, и своеобразная выразительность его полупения кое-кому нравилась.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: