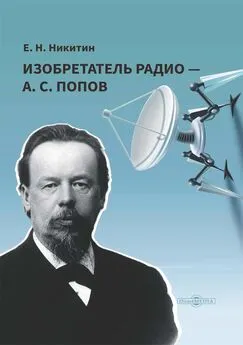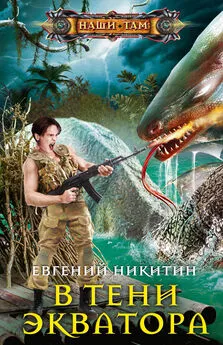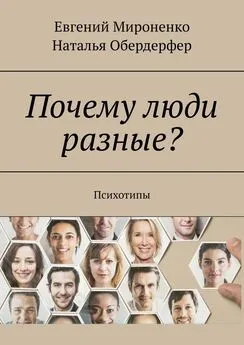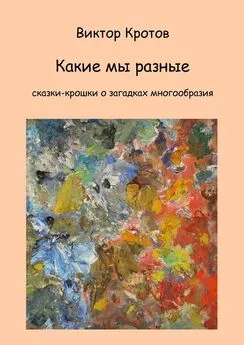Евгений Никитин - Какие они разные… Корней, Николай, Лидия Чуковские
- Название:Какие они разные… Корней, Николай, Лидия Чуковские
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- Город:Нижний Новгород
- ISBN:978-5-89533-311-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Никитин - Какие они разные… Корней, Николай, Лидия Чуковские краткое содержание
(настоящее имя – Николай Корнейчук) – смело может называться самым любимым детским писателем в России. Сколько поколений помнит «Доктора Айболита», «Крокодилище», «Бибигона»! Но какова была судьба автора, почему он пришел к детской литературе? Узнавший в детстве и юности всю горечь унижений, которая в сословном обществе царской России ждала «байстрюка», «кухаркиного сына», он, благодаря литературному таланту, остроумному и злому слогу, стал одним из ведущих столичных критиков. Но революция круто изменила жизнь и творчество Чуковского. Из критики он вынужден был уйти в литературоведение, а творческое самовыражение искал в стихах для детей. Но и это было небезопасно во времена, когда, казалось бы, безобидная сказка могла стать поводом для жестокой травли – а это случалось с Корнеем Чуковским не раз. Сын,
пришел в литературу на сломе эпох. Он начинал как поэт, ученик Гумилева, но реализовался как автор прекрасных прозаических книг, как для детей, так и для взрослых. Фронтовой корреспондент, прошедший Великую Отечественную войну, он создал замечательный роман о летчиках, защищавших Ленинград – «Балтийское небо», ставший основой одноименного фильма.
благодаря своему жесткому, непримиримому характеру, всегда находилась в оппозиции к окружающим и к власти. Еще в юности она побывала в ссылке, позже пережила самую большую трагедию в жизни – гибель мужа в годы репрессий. Но не сломалась, и продолжала заниматься литературным трудом. Однако в России ее книги стали издаваться лишь в постперестроечное время. Наиболее известна Лидия Чуковская своими «Записками об Анне Ахматовой». В работе над книгой автору, по его признанию, помогли беседы с внуками К. И. Чуковского, предоставившими редкие материалы из архива семьи. Также в книге использованы материалы Российского государственного архива литературы и искусства в Москве.
Какие они разные… Корней, Николай, Лидия Чуковские - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Вы его знаете? – спросила я.
– Нет, но он так любит детей!
И то и другое было правдой».
Положительные и отрицательные качества есть у кащдого человека. Беда заключалась в том, что смесь боли, шутовства и лжи неожиданно подхватывала Корнея Ивановича и несла в непредсказуемом направлении, и он ничего с собою не мог поделать. После таких приступов признавался: «я – паяц», «я – преступник». Это состояние Чуковского описал Е. Л. Шварц: «Он был окружен как бы вихрями, делающими жизнь возле него почти невозможной. Находиться в его пределах в естественном положении было немыслимо, как в урагане посреди пустыни. И к довершению беды вихри, сопутствующие ему, были ядовиты». Эти «вихри» делали мучительной жизнь и самого Корнея Ивановича. Е. Л. Шварц пишет: «Он вечно и почему-то каждый раз нечаянно, совсем, совсем против своей воли, смертельно обижал кого-нибудь из товарищей по работе. Андреев жаловался на него в письмах, Арцыбашев вызывал на дуэль, Аверченко обругал за предательский характер в “Сатириконе”, перечислив все обиды, нанесенные Чуковским ему и журналу, каждый раз будто бы по роковому недоразумению. И всегда Корней Иванович, поболев, оправлялся. Однако проходили эти бои, видимо, не без потерь. И мне казалось, что уходя в себя, Корней Иванович разглядывает озабоченно ушибленные в драке части души своей».
Душа болела, и все же он не мог удержаться, чтобы не сказать, например, С. Я. Маршаку после приглашения того на высокий прием во время работы Первого всесоюзного съезда советских писателей: «Да, да, да! Я слышал, Самуил Яковлевич, что вы были на вчерашнем приеме, и так радовался за вас, вы так этого добивались!»
При построении фразы Чуковский, не задумываясь, может быть даже непроизвольно, применял отработанный им трафарет. «У Корнея Ивановича, как у великих фехтовальщиков, была выработана своя система удара. Фраза начиналась с похвалы и кончалась выпадом» (Е. Л. Шварц).
Самый известный пример воздействия «вихрей» – письмо Чуковского к А. И. Толстому, которое адресат опубликовал в литературном приложении к берлинской газете «Накануне» 4 июня 1922 года. В письме говорилось: «В 1919 году я основал “Дом Искусств”; устроил там студию (вместе с Николаем Гумилёвым), устроил публичные лекции, привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенуа, Добужинского, устроил общежитие на 56 человек, библиотеку ит.д. И вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают – эмигранты, эмигранты! Дармоедствовать какому-нибудь Волынскому или Чудовскому очень легко: они получают пайки, заседают, ничего не пишут и поругивают Советскую власть. <���…> Вот сейчас вышел сборник молодежи ‘'Звучащая Раковина”. Ни одного стихотворения о России, ни одного русского слова, всё эстетические ужимки и позы. <���…> Замятин очень милый человек, очень, очень, – но ведь это чистоплюй, осторожный, ничего не почувствовавший».
Не будем говорить о том, что Е. И. Замятин не заслуживает данной ему оценки, да и А. Л. Волынский и В. А. Чудовский тоже, скажем несколько слов о сборнике «Звучащая Раковина» (Пб., 1922). Его авторы, члены одноименного литературного кружка, посвятили книгу «Памяти нашего друга и учителя Н. С. Гумилёва», годом ранее безвинно расстрелянного чекистами. В предисловии авторы написали:
«Понемногу у тех случайных слушателей, которые пришли в Дом искусств осенью 1920 года заниматься у Н. С. Гумилёва, появилась потребность более близкого и замкнутого общения друг с другом – таким образом зародилась Звучащая Раковина.
Естественно, что у кружка нет никакой поэтической платформы, нет общего credo.
То, что объединяет нас, гораздо интимнее, – это большая и строгая любовь к поэзии и самый живой интерес к проявлению ее у каждого.
Звучащая Раковина очень легко и радостно объединяет и символистов, и акмеистов, и романтиков.
Вот этой-то широкой беспартийностью своих взглядов Звучащая Раковина может быть более всего обязана своему почетному синдику Гумилёву».
Среди авторов «Звучащей Раковины» был и сын Чуковского – Николай. Однако даже это обстоятельство не удержало Корнея Ивановича от несправедливых критических слов в адрес сборника.
Если человек в зрелом возрасте не мог обуздать свои «вихри», то можно представить, что делали они с ним в юности, в гимназические годы. В воспоминаниях о своем однокласснике, также ставшем известным писателем, – Борисе Житкове, Чуковский признался: «Я принадлежал к той ватаге мальчишек, которая бурлила на задних скамейках и называлась “Камчаткой”».
Именно поведение Коли Корнейчукова, безобразное с точки зрения большинства преподавателей, стало причиной его исключения из гимназии. Однако писатель Чуковский не хотел признаться в этом (возможно, даже самому себе), потому что из этого следовало: он – причина огромной боли, которую испытала его мать. Чуковский старался представить это событие в ином свете. Примечательно, что он предлагал читателям различные версии случившегося (что заставляет сомневаться в их правдивости).
В повести «Секрет» сначала главный герой думал, что его выгнали из-за стычки с законоучителем отцом Мелетием. Но затем выяснилось, что истинная причина в другом. Преподаватель истории Иван Митрофанович (гимназисты между собой называли его Финти Монти) объяснил своему ученику: «Не за то тебя гонят, что ты виноват, а за то, что ты курносый Гнилокишкин, за то, что ты черная кость. В этом вся твоя, дурень, вина. Шестиглазому велено выкинуть из гимназии всю бедноту, всех кухаркиных детей, Гнилокишкиных, вот он и брешет на тебя как на каторжного, чтобы было ловчей тебя выгнать».
Здесь Чуковский говорит о царском Циркуляре, прозванном в народе «Указом о кухаркиных детях». Документ, подписанный императором Александром III, подготовил и проводил в жизнь министр народного просвещения И. Д. Делянов, получивший свой пост по рекомендации К. П. Победоносцева. Того самого Победоносцева, про которого Александр Блок в поэме «Возмездие» написал:
В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла.
«Указ о кухаркиных детях» вступил в силу в 1887 году. Руководствуясь им, Колю Корнейчукова могли не принять в гимназию, когда он в нее поступал в 1892 году, но никак не исключить из нее несколькими годами позднее.
Другую версию исключения из гимназии находим в автобиографическом рассказе «Бранделяк». Старшеклассники отняли у Коли Корнейчукова тетрадку с его стихами. Среди других в ней было стихотворение о герцоге Бранделюк де-Бранделяк со следующими строчками:
Господин де-Бранделюк —
Замечательный индюк.
Как я рад, что я знаком
С этим важным индюком!
. . . . . .
Если б не был я знаком
С этим важным индюком,
Не узнал бы я никак,
Что спесивый и хвастливый
Господин де-Бранделяк —
Задающийся дурак.
Интервал:
Закладка:
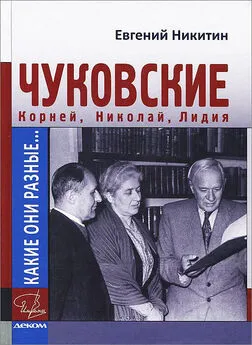


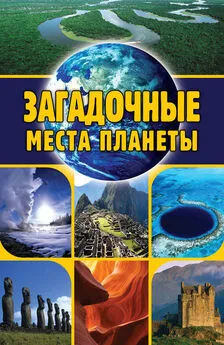
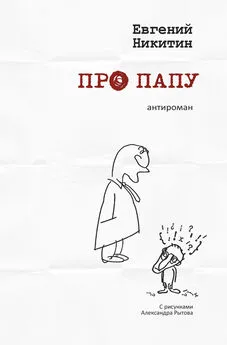
![Евгений Никитин - В тени экватора [litres]](/books/1062075/evgenij-nikitin-v-teni-ekvatora-litres.webp)