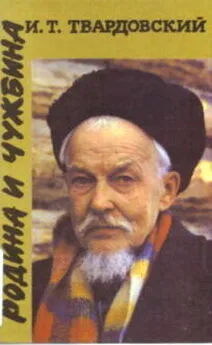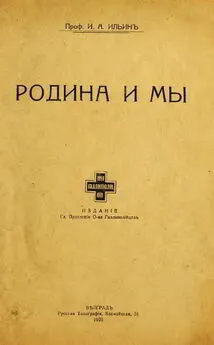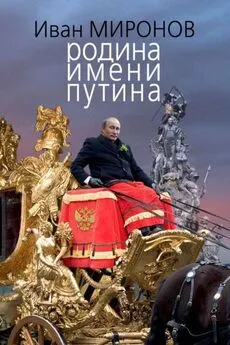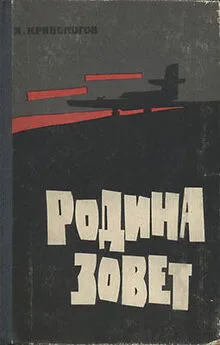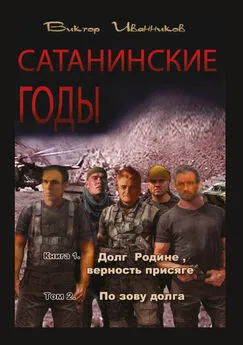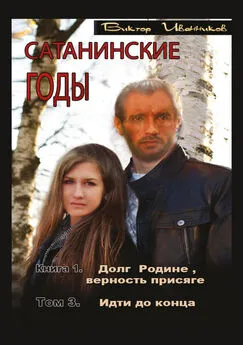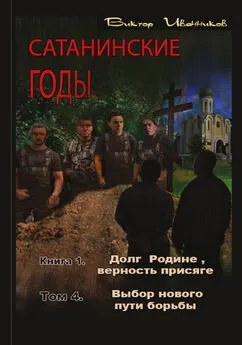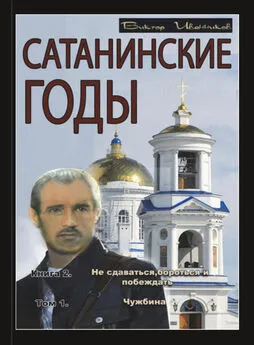Иван Твардовский - Родина и чужбина
- Название:Родина и чужбина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:“Посох”
- Год:1996
- Город:Смоленск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Твардовский - Родина и чужбина краткое содержание
Воспоминания родного брата поэта Александра Твардовского. Раскулачивание, ссылка, плен, лагеря - в общем обычная жизнь в России 20 века.
Родина и чужбина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Может быть, я уже не совсем точно приведу названия селений, через которые приходилось проезжать, но однако же помню Лучесу, Бесищево, Бердибяки, Петрово. В Лучесе было много деревьев, кажется, берез. Несметное число галочьих или грачиных гнезд прямо в деревне, возле хат. Отец никогда не проезжал молча через эту деревню. Он даже приостанавливал лошадь и любовался царством птиц, обращал внимание на особенность жизни этой деревни, ее людей, с одобрением отмечал, что эти — по-настоящему русские, раз они так любят природу. В Бесищеве, неподалеку от дороги, помнится, был какой-то парк или сад, довольно тенистый, через который проглядывал белый дом с колоннами у подъезда. И здесь тоже останавливался и без какой-либо зависти восхищался открывающейся картиной.
Что касается его отношения к людям, то тут надо признаться, что был он порой прямоват, неосторожен и несколько высокомерен. Но любил и нелукаво уважал всякого, в ком видел деловитость, мастерство или трудолюбие. Лодырей и бездарностей открыто высмеивал.
В полутора-двух верстах от нас жил в деревне Селиба удивительный человек Николай Федорович Рыбкин — редкостный мастер. Семья у него была преогромная: куча-лестница сыновей-дочерей, а рабочих рук мало. Поэтому бедность одолевала его постоянно. Отец дружил с Рыбкиным и очень уважал этого человека, охотно общался с ним, ценил как самородка-механика.
В деревне Столпово проживал Лазарь Иванович Иванов. Был он балагур, песенник и плясун. Жил бедновато, а точнее, даже бедно, хотя и имел свою хату, какой-то небольшой надел земли. Но была в нем жизнерадостность, никогда он не унывал. Выпить, правда, любил, но больше не по пристрастию, к случаю. Знал множество шуток, частушек-прибауток. Нередки бывали случаи, когда он навещал отца, и тот, если даже был занят, ради этого человека прекращал работу. Потому как Лазарь Иванович был «доктор» — хандру снимал, желчность лечил. Он послушает тебя, упершись взглядом, взвесит грусть твою и… "Эх-х! Эх! Лапти мои, лапоточки мои!" — привстанет и притопнет, повернется, прищелкнет, на лице у него уже все что надо: работает каждый нерв, а слова так и льются, так и ловят душу — мертвого поднимут.
— Да, нечистая тебя побирай! — скажет отец. — Постой, дай очнуться! И откуда ты берешь все это, Лазарь Иванович?
Куда там! Лазаря Ивановича не остановить. Заряд у него такой подоспел, и пока не выработает его, будет продолжать. Его скуластое лицо, щедро отмеченное возрастом, все так и играет, а сам он уже как бы вне земного притяжения, он на крыльях, он не имеет веса, он пляшет. Музыка? Все — он: передохнет, притихнет и снова:
Иа-ах вы, Сашки, вы, Машки мои!
Р-разме-еняйте бумажки мои!
А-а! Бумажки все новенькие —
Двадцатипятирублевень-кие!
Ох-о-ох! Я была молода,
Не ведала усталости труда!
О-ох! Ох! У-уу-у!..
Такие артисты-самородки и разыгрываемые ими сценки, заменявшие и цирк и кино, разнообразили и даже оздоровляли хуторскую жизнь. Взрослым они позволяли хоть на минуту сбросить с плеч тяготы жизни, а для нас, детей, были и вовсе ни с чем не сравнимы. Смотрели и слушали их с превеликим удовольствием.
Не могу удержаться, не сопережить, да и читателю хочу напомнить о милом, сыновнем стихотворении брата — "Поездка в Загорье", в котором он упоминает наших односельчан, в том числе и Лазаря Ивановича. Написано это стихотворение спустя полных десять лет со дня последней встречи брата с уголком детства и юности, где почти так же давно не было его кровных. Приведу отдельные строки:
Я окликнул не сразу
Старика одного
Вижу, будто бы Лазарь.
— Лазарь!
— Я за него…
Присмотрелся — и верно:
Сед, посыпан золой
Лазарь, песенник первый,
Шут и бабник былой…
И еще:
— Что ж, мы, добрые люди,—
Ахнул Лазарь в конце,—
Что ж, мы так-таки будем
И сидеть на крыльце?
В начале двадцатых годов кузницы у отца не было. Семья наша, состоявшая из девяти человек, продолжала жить с земли. В хозяйстве имели одну лошадь, две коровы, несколько овец. Но жилось трудновато. Хлеб был постоянной проблемой. Рожь, основная хлебная культура, на нашей земле редко удавалась, и отец вынужден был пересеивать озимые яровыми — ячменем, гречихой, овсом. Веснами несколько лет подряд мы бывали без хлеба. Перебивались всякой зеленью, вместо хлеба шли затируха, драники и все такое. Питались, как в шутку говорил отец, "акридами и диким медом" {2} 2 Акриды — род саранчи, употребляемой в пищу в Аравии. "Питаться диким медом и акридами" — значит голодать, скудно питаться. (Ред.).
. Хорошо помню, что весной 1923 года продали платяной шкаф и комод, так как иного выхода не видели. Вещи эти были, пожалуй, единственные, которые как-то облагораживали наше жилище, но бесхлебица принудила отдать за муку. Купил эти вещи наш родственник из деревни Ковалеве — Вознов.
— Черт с ним со всем! — говорил отец. — Не пропадать с голоду!
А потом и продавать уже нечего стало. Ходил отец однажды из угла в угол, курил махорку, думал. В такие минуты все затихали, чего-то ждали, надеялись, потому что знали его натуру, помнили им же сказанные неоднажды слова, что безвыходных положений не бывает. Тогда-то он вдруг остановился и объявил:
— Всё! Иду в люди! Руки мои еще здоровы!
Выражение "в люди" он знал из сочинений Горького, свои слова — "руки мои еще здоровы" — говаривал нередко, если предвиделась нелегкая работа. Откладывать сборы не любил. Утром следующего дня мы расставались. Всех он перецеловал, каждому что-то успел сказать, хотя бы просто "Будь молодцом! Не горюй!" — и ушел. Удаляющуюся его фигуру, видневшуюся на травянистой дорожке вдоль межи, мы долго провожали взглядом. Уже чуть заметной была его покачивающаяся голова за пригорком, потом и совсем скрылась, но мы все смотрели и смотрели туда вдаль, как бы боясь повернуться и увидеть опустевшее его место у окна.
Недели через две отец возвратился домой — семьянин он был заботливый: спешил дать знать, где нашел работу и что ожидается впереди. Настроение у него было приподнятое. В деревне Мурыгино, что была где-то по Рославльскому шоссе между Починком и Смоленском, неподалеку от деревни Колычеве, в которой жила его родная сестра Евдокия, он работал теперь исполу, в хозяйской кузнице, у некоего Абрама. Молотобойцем у него был хозяйский сын, мечтавший стать кузнецом. Отец удовлетворен. За эти первые недели он успел кое-что заработать — принес связку баранок, немного сала, несколько рублей денег, узелок крупы. Радости нашей не было конца: все мы чем-то одарены, как-то отмечены. Всего же дороже было то, что отец остался доволен найденным местом. Ковал он там лошадей, зубил серпы, правил крестьянские топоры — все работы он хорошо знал. Дела нашей семьи заметно улучшились. Так и пошло: каждую субботу Костя впрягал лошадь, ехал в Мурыгино и привозил домой отца с гостинцами. Воскресные дни стали похожи на праздники.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: