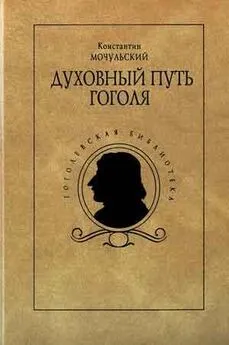Константин Мочульский - Александр Блок
- Название:Александр Блок
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Мочульский - Александр Блок краткое содержание
Александр Блок - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Перед нами необыкновенный человеческий документ. Белый отнимает у своего друга любимую жену, разбивает ему жизнь — тот молча устраняется с его пути. Но любовь Белого кончается трагическим разрывом, он несчастен, и ему нужно сочувствие друга, которого он едва не погубил. Его мучает и возмущает «бездонное молчание» Блока. И он мстит за него злобной и низкой литературной полемикой. Мы готовы сказать: у Блока не могло быть большего врага, чем Белый. И, действительно, никто в жизни не причинил ему столько зла, столько страданий. Но это — только половина правды; а другая половина в том, что никто, никогда не любил его, как Белый. Письмо, только что нами прочитанное, есть письмо влюбленного. Трагедия Белого заключалась в том, что он был влюблен не только в Любовь Дмитриевну, но и в Александра Александровича и что обе эти сумасшедшие его любви были глубоко несчастны. Отсюда все: и ненависть, и ревность, и подозрительность, и бешенство. Он поносил, оскорблял, высмеивал Блока и… «я Вас продолжал ужасно любить…».
На письмо Белого Блок отвечает изумительным посланием (15–17 августа), в котором с какой-то нечеловеческой проницательностью и правдивостью он рассказывает историю их роковой дружбы. «Наше письменное знакомство, — начинает он, — завязалось, когда Вы сообщили через Ольгу Михайловну Соловьеву, что хотите писать мне. Я сейчас же написал Вам, и первые наши письма сошлись. С первых же писем, как я сейчас думаю, сказалось различие наших темпераментов и странное несоответствие между нами — роковое, сказал бы я. Вот как это выразилось у меня: я заранее глубоко любил и уважал Вас и Ваши стихи. Ваши мысли были необыкновенно важны для меня, и сверх всего (это самое главное) я чувствовал между нами таинственную близость, имени которой никогда не знал и не искал. В то время я жил очень неуравновешенно, так что в моей жизни преобладало одно из двух: или страшное напряжение мистических переживаний (всегда высоких), или страшная мозговая лень, усталость, забвение обо всем. Кстати, я думаю, что в моей жизни все так и шло, и долго еще будет идти тем же путем. Теперь вся разница только в том, что надо мной „холодный белый день“, а тогда я был „в тумане утреннем“… По-прежнему, как в пору нашего письменного знакомства, когда Вы любили меня и верили мне, во мне всё те же огненные переживания, сменяющиеся мозговой ленью, плюс трезвость белого дня. Итак, я стою на том, что по существу не изменился. Теперь — далее. В ту пору моей жизни, когда мы встретились с Вами, я узнал и Драматическую Симфонию (не помню — до или после знакомства), и вся наша переписка, сплетаясь с моей жизнью, образовала для меня симфонию необычайной и роковой сложности: я не разбирался в этой сложности. Знаю одно: мне было трудно понимать Вас и трудно писать Вам. Я объяснял это ленью. Ровно через год мы встретились. Мне было трудно говорить с Вами, и я опять объяснял это своею ленью. Но это было не единственной причиной. Причина, вероятно, главная, сказалась при следующих обстоятельствах. Вы помните, что в то же лето Вы приехали в Шахматово с Петровским. Помню резко и ясно, как мы гуляли в первую ночь при луне и Вы много говорили, а я, по обыкновению, молчал. Когда мы простились и разошлись по своим комнатам, я почувствовал к Вам мистический страх. Насколько помню, об этом реальнейшем для меня факте нашего знакомства я никогда Вам не говорил. В этом, может быть, моя большая мистическая вина. В эту ночь я почувствовал и пережил напряженно то, что мы „разного духа“, что мы — духовные враги. Но я — очень скептик, тогда был мучительно скептик, — и следующее утро разогнало мой страх. Мне было по-прежнему только трудно с Вами. Думаю, что Вы почувствовали, что происходило во мне, как вообще непостижимо (для меня и до сих пор) тонко чувствовали многое… Потом опять наши письма и наши встречи, которые в последние годы участились благодаря тому, что известно Вам… Мы с Вами и письменно и устно объяснялись в любви друг к другу, но делали это по-разному— и даже в этом не понимали друг друга. Вы, по-моему, подходили ко мне не так, как я себя сознавал, и до сих пор подходите не так. Вы хотели и хотите знать мою „моральную, философскую, религиозную физиономию“. Я не умею, фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями. Некоторых из этих событий и переживаний не знает никто на свете, и я не хотел и не хочу сообщать их Вам… Философского credo я не имею, ибо не образован философски; в Бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в Бога — иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли?.. Я готов сказать лучше, чтобы Вы узнали меня, что я — очень верю в себя, что ощущаю в себе какую-то здоровую цельность и способность в уменьи быть человеком, — вольным, независимым и честным. Все это я пережил и ношу в себе, — свои психологические свойства ношу, как крест, свои стремления к прекрасному, как свою благородную душу. И вот одно из моих психологических свойств: я предпочитаю людей идеям… Из этого предпочтения вытекает моя боязнь „обидеть“ человека…
Как все это сонно, томительно и страшно, Борис Николаевич. Я вязать и разрешать не берусь. Вчера, под впечатлением Ваших писем, я поехал в Москву, написал Вам из ресторана „Прага“ письмо о том, что хотел бы говорить с Вами искренно и серьезно… Это письмо прервал на половине, показалось, что письменно не изложишь всего. Теперь продолжаю— и вот почему: когда лакей воротился с ответом, что Вас нет дома (это было в 10-м часу вечера), мне показалось, что так и надо, что нам все равно не сговориться устно. Но писать решаюсь продолжать, сейчас воротился из Москвы и вот пишу. Говорил всю дорогу с молодым ямщиком. У меня теперь очень крупные сложности в личной жизни… Но я здоров и прост, становлюсь все проще, как только могу…
Драма моего миросозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я — лирик. Быть лириком— жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь — и ничего не останется. Веселье и жуть — сонное покрывало. Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет только моя душа, я не написал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение.
Теперь о другом… Сердце мое по-прежнему лежит ближе к Вам, чем к „факельщикам“… Среди „факельщиков“ стоит особняком для меня Вяч. Иванов, человек глубокого ума и души. Если я кощунствую, то кощунства мои с избытком покрываются стоянием на страже. Так было, так есть и так будет. Душа моя — часовой несменяемый, она сторожит свое и не покинет поста. По ночам же сомнения и страхи находят и на часового… „Мы друг другу чужды“, говорите Вы. Поставьте вопрос иначе: решаетесь ли Вы верить лирику, каков я, то есть в худшем случае слепому, с миросозерцанием неустановившимся, тому, который чаще говорит нет, чем да? Примите во внимание, что речь идет обо мне, никогда не изменившемся по существу… Если же все это так, то признайтесь: надоело Вам считаться с такой зыблемой, лирической душой, как моя… НО тут я и спрашиваю Вас, „как на духу“, по Вашему выражению: уверены ли Вы, что Вы вернее меня? Я утверждаю, что через всю мою неверность, предательства, падения, сомнения, ошибки — я верен. В основании моей души лежит не Балаганчик, клянусь».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: